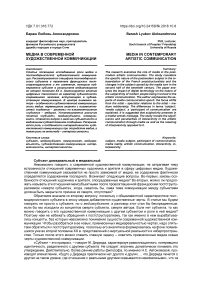Японские интеллектуалы 1930-1940-х гг.: противодействие националистическим представлениям в философии Киотской школы на этапе ее становления
Автор: Язовская Ольга Валерьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье показан характер взаимодействия представителей первого поколения Киотской школы с националистическими представлениями в рамках Японской империи 1930-1940-х гг. как авторитарного государства, основной государственной идеологией которого выступала концепция национальной сущности кокутай. Кратко определены основные характеристики самой школы, подробно рассмотрены взгляды ее основателей: отношение к государственной политике и войне Нисида Китаро в его поздних трудах и переписке, а также понимание нации у Танабэ Хадзимэ в эссе по логике видов и поздних высказываниях. Представленный текстологический анализ показал попытку сокрытия настоящих воззрений философов посредством националистической терминологии, принятой в государственной пропаганде того времени. Их позиция носила антисистемный характер и не стремилась оправдать национализм.
Киотская школа, политическая философия, концепция кокутай, японский национализм, хх век, нисида китаро, танабэ хадзимэ
Короткий адрес: https://sciup.org/149133680
IDR: 149133680 | УДК: 323.329(520)“193/194”:[329.17+1(091)(520)] | DOI: 10.24158/fik.2018.10.7
Текст научной статьи Японские интеллектуалы 1930-1940-х гг.: противодействие националистическим представлениям в философии Киотской школы на этапе ее становления
Субъект домедиальный и медиальный
Невозможно говорить о современной художественной коммуникации, не затрагивая тему встроенности отношений современных художника и зрителя в сферу цифровых медиа. Художественная коммуникация оказывается не просто зависимой от медиа, ее содержание фактически определяется содержанием последнего. Возникают следующие вопросы. Во-первых, каковы особенности отношений художника и зрителя, опосредованные медиа? Во-вторых, можно ли продолжать называть эти отношения межсубъектными после провозглашенной французским постструктурализмом «смерти субъекта», когда, казалось бы, сама тема коммуникации между субъектами должна быть закрыта по причине их смерти, отсутствия?
Обратимся вначале ко второму вопросу, поскольку к общеизвестной характеристике постмодернистского субъекта в эпоху медиа добавляются существенные черты. В статье мы будем говорить не просто о субъекте, но о медиасубъекте , и разговор этот стал бы беспредметным, если бы мы исходили из концептов смерти субъекта, смерти автора. Если нет субъекта, то как можно говорить о его художественной коммуникации с другим субъектом и роли в ней медиа? Поэтому нам не избежать обращения к постструктурализму, так как именно в нем вырабатывались концепты, без которых невозможно понимание сущности современной художественной коммуникации. Чтобы разобраться в ее новых, привнесенных медиареальностью чертах, надо опять-таки обратиться к постструктурализму, поскольку его аналитика формировалась на фоне появившихся уже во второй половине ХХ в. представлений о виртуальной реальности и киберпространстве. Только после этого можно ставить главную задачу – осветить привнесенные медиа новые черты художественной коммуникации.
«Субъект – это призрак», – говорит Ж. Деррида, характеризуя развоплощенного, потерявшего идентичность, разделенного с другими субъекта. Не следует, впрочем, догматически понимать это утверждение. Действительно, более ранние работы философа, по мнению Н.С. Автономовой, производят впечатление, «будто у Деррида практически нет другого и других…, что Деррида печется о другом на таком уровне, где отношения с реальными другими оказываются невозможными», что «в ситуации, хотя бы отдаленно напоминающей диалогическую, он оказывается неспособным вести диалог». Однако в более поздних его работах, отмечает она, появляется новая грань: нацеленность «на другого как уникального, идиоматичного, неповторимого, тайного…, открытого абсолютно новому» [1, с. 66–67]. Т. е. другой – вовсе не призрак, а тот, кто, напротив, реален и необходим другому субъекту. Когда же Деррида говорит о творчестве, потребность в другом выражена предельно ясно и даже поэтически-эмоционально: это «прочерчивание иного по направлению к иному…, братское другое – это… работа и опасность вопрошания; вначале оно не успокаивается в ответе, где два утверждения соединяются брачными узами, но оно призвано в ночи трудом пустоты выспрашивания» [2, с. 48]. Выспрашивание, вопрошание, устремленность к братскому другому – это ли не признаки диалогичности, без которых немыслима художественная коммуникация?
Даже несмотря на уверенность М. Фуко в том, что «человек – изобретение недавнее, …и конец его, быть может, недалек» и что «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [3, с. 404], уверенность, которую следует понимать, конечно, не в буквальном, натуралистическом смысле, а как вполне прогнозируемую возможность замены самого образа человека, сложившегося в европейской культуре с начала ХVI в., неким новым человеческим типом, проблема человека настолько занимает философа, что именно ей он посвящает «Герменевтику субъекта». Сама постановка цели этой работы – «поиски другой критической философии – не той, что определяет условия и границы знания объекта , но условия и безграничные возможности преобразования субъекта » [4, с. 573]. Если речь идет о преобразовании, да еще имеющем безграничные возможности, значит, субъект подразумевается как нечто развивающееся, активное, действующее, стало быть контактирующее с другими субъектами.
Итак, положение о «смерти субъекта» оказывается не более чем фигурой речи, правда весьма точно отражающей существенную черту современной социокультурной ситуации: на смену классическому субъекту пришел субъект нового типа. Во многом его особенности и специфика художественной коммуникации, в которую он способен вступать, определяются развитием техники, появлением фотографии, кино, радио, а впоследствии телевидения, цифровых медиа. Еще в 1936 г. В. Беньямин отметил, быть может, самое главное следствие вторжения техники в сферу искусства – «тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым » [5, с. 22]. Способность техники к бесконечному тиражированию лишает художественное произведение его ауры, уникальности, выводит из сферы традиции. И все, что говорит Беньямин о восприятии произведения в эпоху его технической воспроизводимости, имеет отношение в первую очередь к массовому искусству. Именно здесь прививается «вкус к однотипному в мире», и именно массовое искусство «выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений» [6, с. 25].
Далее, в течение второй половины ХХ в. субъект проходил ряд изменений, оказываясь захваченным то лингвистическим, то иконическим, а затем медиаповоротом. Последний из них – медиаповорот – связан с появившимися цифровыми медиа, оказавшими влияние на искусство и на способы коммуникации при помощи искусства. Медиа властно диктуют стиль жизни, общения, поведения, оценки, желания. Современное общество, по выражению П. Вирильо, философа и архитектурного критика, еще в 1980-х гг. обратившегося к вопросу о природе виртуального образа, проблеме искусственной реальности цифровой симуляции, – это «цивилизация образа», в которой «синтетическая образность станет вскоре последней, итоговой формой рассуждения» [7, c. 139].
Новый субъект, находящийся во власти цифровых медиа, – это медиасубъект , пребывающий в медиареальности. Из характеристики, даваемой ему медиафилософом В.В. Савчуком, следует, что свойствами субъектности он, по сути, не обладает. На первый взгляд, суждение парадоксальное: что это за субъект, если у него нет свойств субъектности? Однако он пассивен, управляем, лишен индивидуальности. И недаром термин «субъект» заменяется термином « коммуникант » [8, с. 128]. Хотя и это наименование неточно: безличностный потребитель массовой культуры неспособен на истинную коммуникацию с обратной связью между художником и зрителем.
Второе послание
Общеизвестен тезис канадского философа, теоретика медиа Г.М. Маклюэна «medium is the message» – медиум есть послание [9]. Неоднозначность этого тезиса показывает Б. Гройс. С одной стороны, послание, переданное с помощью технического устройства, что бы это ни было – звуки, краски – является дегуманизированным , нечеловеческим посланием. С другой стороны, налицо тенденция регуманизации медиа: и название книги Маклюэна «Понимание медиа», и ее содержание говорят о том, что послание должно быть понято и правильно интерпретировано зрителем. «Субмедиальный субъект для Маклюэна, – утверждает Б. Гройс, – является антропоморфным субъектом речи , язык которого нужно понять» [10]. Но что это за язык, кто говорит на нем?
Помимо того послания, которое сообщает зрителю художник, помимо его сознательной коммуникативной интенции, одновременно возникает второе послание, неподвластное сознательному контролю отправителя, – высказывание медиума. Акцент переносится с взаимоотношений художника и зрителя на взаимоотношения художника и медиума. Художник обменивает знаки своего послания на знаки медиума. Скрытый субмедиальный субъект тем самым обретает голос, а художник превращается в медиум медиума. Послание медиума становится его посланием, при этом собственное послание художника становится посланием медиума. Здесь встает вопрос о субъективности такого послания. «Возникает впечатление, – пишет Б. Гройс, – что послания медиума должны подрывать, расшатывать и, в конце концов, разрушать субъективную, аукториаль-ную интенцию сообщающего», из чего следует, что «послание медиума стало посланием о поражении субъекта» [11]. Но почему бы не предположить, продолжает он, что субъективная интенция заключается именно в том, чтобы выявить послание медиума, сделав это послание своим собственным? Почему не дать выражение тому субъекту, который скрывается за медиа?
Подведем предварительные пока итоги интересующей нас темы – техника и межсубъектные отношения в художественной коммуникации. Парадокс заключается в том, что даже в постструктуралистской философии, приложившей немало усилий для «ниспровержения» человека с гуманистического пьедестала культуры, субъект предстает в конечном итоге способным к диалогу, творчески активным и саморазвивающимся. В то же время в современной медиафилософии можно столкнуться с мнением, что чертами субъектности он, в сущности, не обладает. Кто же прав? Дело в том, что мэтры постструктурализма не так часто обращались к темам, связанным с массовой культурой, ролью техники в искусстве, а философское направление, предметом которого впоследствии станет медиареальность, только начинало формироваться в период, когда писались их основные работы. Проблематика субъекта именно в связи с медиа не была столь актуальна, как сегодня. Отсюда и парадоксальный эффект: как раз в «бессубъектной» философии этих авторов, особенно в поздний период, есть место тому толкованию субъекта, которое мы соотносим с художественной коммуникацией (взаимоотношения художника и зрителя как субъектов, личностей), в то же время в создаваемой в наши дни медиафилософии, изучающей человека в пространстве медиареальности, медиасубъекту отказано в субъективности, он превратился в коммуниканта .
Удивительно то, что из всего огромнейшего спектра художественных направлений и течений медиафилософия порой останавливает свой взгляд только на массовой культуре. В качестве медиасубъекта рассматривается именно потребитель массовой культуры, в то время как медиа, несущие в себе огромный потенциал художественной культуры, тысячелетиями создававшейся человечеством, несут сообщение (или сами являются сообщением) для зрителей/слушате-лей/читателей классики, народного творчества, серьезного современного искусства. Возникает вопрос: должны ли мы отождествлять эти две столь разные категории зрителей? Ведь и те, и другие – медиасубъекты. Но как разительно несхожи их интеллектуальные, мировоззренческие характеристики: достаточно сравнить безличностность, нетребовательность, внушаемость потребителей массового искусства и художественный вкус, знание разных стилей, особенностей культурных эпох, порой энциклопедическую образованность медиасубъектов, к которым обращены произведения Дж. Джойса, Дж. Фаулза, У. Эко, П. Булеза, Я. Ксенакиса, Л. Берио, А. Шнитке. Первые, как это признает медиафилософия, лишены черт субъективности, вторые обладают ею в высокой степени. Поэтому, на наш взгляд, понятие медиасубъекта должно быть разработано как более емкое, заключающее в себе все многообразие типов субъективности.
Интерактивность и интерпассивность
Одним из главных свойств постмодернистской художественной коммуникации считается новое распределение ролей художника и зрителя: не автор, а зритель/читатель/слушатель играет первую скрипку. Принципиальная открытость текста дает воспринимающему полную свободу интерпретации, он фактически становится автором произведения, соучастником всех происходящих событий. Не последнюю роль здесь играют новейшие средства массовых коммуникаций, которым, как считает Н.Б. Маньковская, постмодернизм обязан своим появлением. «Возникнув прежде всего как культура визуальная, постмодернизм в архитектуре, живописи, кинематографии, рекламе сосредоточился не на отражении, но на моделировании действительности путем экспериментирования с искусственной реальностью », – считает она [12, с. 6–7].
В живописи, по словам П. Вайбеля, воплотилась в жизнь огромная мечта художника: помещать зрителя внутрь живописной картины, а не перед ней. С появлением новых технических средств стало возможным интерактивное взаимодействие картины и зрителя. Статическая картина, пишет П. Вайбель, становится событийным полем, динамической системой, поведение которой зависит от контекста, эту картину зритель может изменять путем интерактивного воздействия. «Из неподвижного окна (как Альберти определил живопись), через которое можно наблюдать маленькую, ограниченную часть мира, картина превращается в дверь, через которую наблюдатель может войти в мир чувствительного, подвижного, контекстуализированного событийного поля. Движение внутри картины и перед картиной синхронизируется с помощью компьютера. Наблюдатель изменяется и передвигает картину, а картина реагирует на движения наблюдателя», – описывает П. Вайбель двустороннюю интерактивную связь между картиной и наблюдателем [13].
В музыке интерактивность проявляется чаще всего через такое неотъемлемое свойство постмодернистского дискурса, как игра. Игре всегда присущи импровизационность, непредсказуемость, огромное поле возможностей для выбора, открытость финала [14]. Вовлекая слушателя в интерактивное творчество, игра делает произведение открытым, музыкальная структура отходит на второй план, главным становится коммуникационный контекст, провоцирующий на самые неожиданные интерпретации.
Использование электронной техники в создании спектральной, компьютерной, электроакустической, синтезаторной музыки дает новые эффекты интерактивности. Обратная связь реализуется с помощью компьютерной управляющей системы, слушатель особым образом воспринимает музыкальное время, процессуальность произведения. В новом музыкальном жанре, получившем название «звуковые скульптуры», используются аудиозаписи природного происхождения (звук воды, плеск ручья, шум прокручиваемого велосипедного колеса, звуки городских улиц и т. д.). При этом микрокосм звука воды или другого природного исходного «сырья» осуществляется методом спектрального анализа. Вопрос восприятия слушателя – где для него различима связь с исходным природным звуком, а где слышны полученные при помощи техники абстрактные музыкальные структуры. Интерактивность такой коммуникации проявляется в том, что раздвигаются традиционные рамки понятия «произведение искусства». Во многих случаях его уже непросто назвать авторским, в такой степени коммуникативный момент выходит на первый план: вовлечение слушателя в процесс творчества, высокая степень импровизационности, непредсказуемость результатов, исчезновение границ между творческой активностью композитора, исполнителя и слушателя [15, с. 51–52].
Возвращаясь к теме постмодернистского субъекта и его места и роли в художественной коммуникации, еще раз обратим внимание на то, как различны характеристики общающихся при помощи искусства субъектов и специфика их коммуникации в различных направлениях медиафилософии: той, которая в качестве медиасубъекта мыслит потребителя массовой культуры, и той, которая подходит к нему с высоких этических, эстетических позиций. Медийный философ и теоретик учения о коммуникации В. Флюсер так видит будущее «телематическое» общество: «Если мы рассмотрим себя в качестве функции для других, тогда “ответственность” займет то место, которое до этого было занято “индивидуальной свободой”. Не дискурс, а диалог будут структурировать будущую культуру, т. е. не “прогресс”, а встречное движение » [16, с. 53].
Это высказывание интересно еще и тем, каким смыслом наполняется понятие «индивидуальная свобода». Оно применено здесь в широком смысле и, несомненно, означает «служение другим», «умение жить для других», но вместе с тем напоминает и об индивидуальной свободе такой, какой она проявляется в типичном для постструктурализма «открытом произведении». Проникновение техники в сферу искусства вносит свои коррективы: наступает время мыслить уже не в категориях постмодернистской эстетики, а в рамках эстетики постпостмодернизма. Принимая во внимание то новое, что привнесено в художественную коммуникацию виртуалистикой, – проницаемость эстетического объекта, утрату им целостности, границ, возможность воздействия на эстетический объект множества интерартистов-любителей, Н.Б. Маньковская делает вывод, что «суждения о произведении как открытой системе теряют свой фигуральный смысл» [17, с. 22–23]. Прошло время постмодернистских художественных симулякров, считает она, теперь, в медийную, постпостмодернистскую эпоху на смену им пришли виртуальные артефакты как компьютерные двойники действительности.
Проникновение медиа в искусство порождает как интерактивность в художественной коммуникации, так и ее двойника – интерпассивность. Это понятие вводит С. Жижек, обращая внимание на то, что медиа часто заставляют нас быть пассивными, делая что-то за нас, оценивая что-то вместо нас, внушая определенную точку зрения. Заранее записанный закадровый смех, внушение рекламы: «Какой голос, какой талант!» – во всех подобных случаях проявляется интерпассивность , поскольку эмоции при взаимодействии с искусством переживает за зрителя-субъекта кто-то другой. Получается, что либо я активен посредством другого, либо я уступаю другому аспект наслаждения произведением искусства. Быть активным или пассивным посредством другого – в равной степени проявления интерпассивности.
Существуют две точки зрения на то, каковы последствия воздействия медиа на субъект. Первая: приход медиа положил конец пассивному потреблению искусства, благодаря им зритель получил возможность взаимодействия, контакта, диалога с текстами, героями, он может участвовать в спектакле и влиять на его ход, как в современном иммерсивном театре. Вторая: медиа, наоборот, превращают нас в пассивных потребителей, слепо пялящихся в экран. Позиция С. Жи-жека не столь оптимистична и не столь пессимистична, как эти две точки зрения. Он утверждает, что «так называемая угроза новых медиа заключается в том, что они как раз лишают нас нашей пассивности, нашего аутентичного пассивного опыта и тем самым подталкивают нас к бессмысленной маниакальной активности» [18].
Конечно, далеко не все особенности постмодернистской художественной коммуникации при посредстве цифровых технологий могут быть изложены в одной статье. За рамками рассмотрения оказались клиповое или пиксельное мышление современного зрителя; проблемы кибернетического искусства, где компьютерные технологии сочетаются с художественной традицией; специфика художественной коммуникации в цифровом искусстве, создающем иллюзию присутствия зрителя в виртуальном мире; особенности общения зрителя с гибридным искусством, где компьютерные программы конструируют искусственные виртуальные организмы с виртуальным мозгом, нервной системой, способностью двигаться, действовать. Все эти проблемы – задачи эстетики завтрашнего дня.
Ссылки:
-
1. Автономова Н.С. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 7–107.
-
2. Деррида Ж. Сила и значение // Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М., 2007. 495 с.
-
3. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / пер. с фр. Н.С. Автономовой. М., 1977. 487 с.
-
4. Фуко М. Герменевтика субъекта / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб., 2007. 677 с.
-
5. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. 240 с.
-
6. Там же. С. 25.
-
7. Вирильо П. Машина зрения / пер. с фр. А.В. Шестакова. СПб., 2004. 140 с.
-
8. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб., 2014. 350 с.
-
9. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. М., 2014. 464 с.
-
10. Гройс Б. Медиум становится посланием // Неприкосновенный запас. 2003. № 6 (32).
-
11. Там же.
-
12. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями»: введение в эстетику постмодернизма. М., 1995. 220 с.
-
13. Вайбель П. Искусство и архитектура в эпоху киберпространства // Художественный журнал Moscow Art Magazine. 1997. № 16.
-
14. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. с итал. В.Г. Резник и А.Г. Погоняйло. СПб., 2006. 544 с. 15. Лейпсон Л. Современная музыка: опыт осмысления // Музыкальная академия. 2014. № 4. С. 48–56.
-
16. Там же. С. 53.
-
17. Маньковская Н.Б. От модернизма к постпостмодернизму via постмодернизм // Коллаж-2. М., 1999. С. 22–25.
-
18. Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. М., 2005. 156 с.
Список литературы Японские интеллектуалы 1930-1940-х гг.: противодействие националистическим представлениям в философии Киотской школы на этапе ее становления
- Фукудзава Юкити. Бунмэйрон-но гайряку = Краткий очерк теории цивилизации. Токио, 1931. На яп. яз.
- Okuyama Michiaki. Religious Nationalism in the Modernization Process: State Shinto and Nichirenism in Meiji Japan // Nanzan Bulletin. 2002. Vol. 26. Р. 19-31.
- Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Японский национализм (идеология и политика). М., 2012. 408 с.
- Heisig J.W. Philosophers of Nothingness: An Essay on the Kyoto School. Honolulu, 2001. 392 p.
- Киотогакуха но тэцугаку = Философия Киотской школы / под ред. Фудзита Масакацу. Киото, 2001. На яп. яз.
- Маральдо Дж. Обэй но ситэн кара мита Киотогакуха но юрай то юкиэ = Происхождение и направления развития Киотской школы с точки зрения Запада // Фудзита Масакацу, Дэвис Б.В. Сэкай но нака но нихон но тэцугаку = Японская философия в мире. Киото, 2005. С. 31-56. На яп. яз.
- Ōhashi Ryōsuke. Die Philosophie der Kyôto-Schule: Texte und Einführung. Freiburg; München, 2011. 548 S.
- Steffensen K.N. The Political Thought of the Kyoto School: Beyond "Questionable Footnotes" and "Japanese-Style Fascism" // The Bloomsbury Research Handbook of Contemporary Japanese Philosophy / ed. by Yusa Michiko. Ch. 3. L.; Oxford; N. Y.; New Delhi; Sydney, 2017. Р. 65-103.
- DOI: 10.5040/9781474232715.ch-003
- Williams D. The Philosophy of Japanese Wartime Resistance: a reading, with commentary, of the complete texts of the Kyoto School discussions of "The Standpoint of World History and Japan". L.; N. Y., 2014. 450 p.
- DOI: 10.4324/9781315852393
- Нисида Китаро дзэнсю = Собрание сочинений Нисида Китаро: в 19 т. Токио, 1978. На яп. яз.
- Ueda Shizuteru. Nishida, Nationalism, and the War in Question // Rude Awakenings. Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism / ed. by J.W. Heisig, J.C. Maraldo. Honolulu, 1994. Р. 77-106.
- Yusa Michiko. Nishida and Totalitarianism: A Philosopher's Resistance // Rude Awakenings. Р. 107-131.
- Heisig J.W. Tanabe's Logic of the Specific and the Spirit of Nationalism // Rude Awakenings. Р. 255-288.