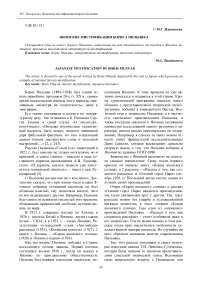Японские мистификации Бориса Пильняка
Автор: Жанцанова Марина Георгиевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
Освещается одна из новелл Бориса Пильняка, написанная им под впечатлением от поездки в Японию, является примером талантливой литературной мистификации.
Борис пильняк, литературная мистификация, японская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/148182013
IDR: 148182013 | УДК: 821.521
Текст научной статьи Японские мистификации Бориса Пильняка
Борис Пильняк (1894–1938) был одним из популярнейших прозаиков 20-х гг. ХХ в., самым ярким писательским именем этого периода, признанным, несмотря на «советскость», даже в эмиграции.
Его талант оценивали и коллеги по литературному цеху. Так отзывался о Б. Пильняке Сергей Есенин в своей статье «О писателях-попутчиках»: «Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений….» [2, с. 243].
Рассказ Пильняка «Голый год», вышедший в 1922 г., был замечен не только читателями, но и критикой, и самое главное – властью в лице тогдашнего наркома просвещения А.В. Луначарского. «В дерзком, смелом замысле уже чувствуется гениальный писатель», – писал о нем Луначарский [4].
О Пильняке писали как ни о ком много. Достаточно сказать, что при жизни было издано 8томное собрание сочинений писателя, он был обласкан властью, ему позволяли многое, чего не могли разрешить другим. Например, Пильняк был одним из немногих писателей того времени, обладавших привилегией свободно путешествовать по миру.
В 1923 г. совершил поездку по Англии, в 1926 г. посетил Китай и Японию, двумя годами позже – США, а в 1932 г. – снова Японию. Результатами путешествий стали «Английские рассказы» (1924), «Китайская повесть» (1927), 2 книги о Японии – «Корни японского солнца» (1926) и «Камни и корни» (1934).
Как мы видим, Пильняк побывал в Стране восходящего солнца дважды. Первая поездка состоялась весной 1926 г., когда он поехал в Японию по приглашению общественности. Пильняк был первым советским писателем, по- сетившим Японию. К тому времени он уже активно печатался и издавался в этой стране. Кроме туристической программы писатель много общался с представителями творческой интеллигенции, побывал в университете Васэда. Восточной теме в творчестве Пильняка, и в частности «японским» произведениям Пильняка, а также поездкам писателя в Японию посвящено множество исследований самого различного характера, иногда весьма оригинальных по содержанию. Например, к одному из таких можно отнести книгу французской исследовательницы Дани Савелли, которая высказывает довольно спорную мысль о том, что Пильняк побывал в Японии по заданию ОГПУ-ВЧК.
Знакомство с Японией произвело на писателя сильное впечатление. Сразу после первого приезда он написал книгу «Корни японского солнца» и 2 рассказа – «Рассказ о том, как создаются рассказы» и «Олений город Нара» (ноябрь 1926 г). Последний автор считал одним из лучших своих произведений.
Очерк «Корни японского солнца» и рассказ «Олений город Нара» являются произведениями, тесно связанными друг с другом. Так, текст рассказа можно без ущерба и художественной натяжки поместить в текст очерков «Корни японского солнца». Еще одно из «японских» произведений Пильняка – «Рассказ о том, как создаются рассказы» – стоит особняком даже в его творчестве. Тем не менее именно в этом рассказе очень ярко высветились особенности художественной манеры писателя. Не случайно на него обратили внимание многие современники Пильняка.
Так, этот рассказ упоминает в своих мемуарах известная певица Т.И. Лещенко-Сухомлина, которая была знакома со многими представителями советской творческой элиты. Вспоминая свою мимолетную встречу с Пильняком, она замечает, что именно этот рассказ ей очень запомнился и понравился, несмотря на то, что она не является поклонницей таланта писателя [5].
Исследователи видят в истории главной героини рассказа Софьи Гнедых прежде всего историю не столкновения, а соприкосновения двух миров – западного и восточного, и, если судить по Пильняку, – фатальной невозможности человека Запада сделать своей жизнью Восточный мир.
Так, Игорь Шайтанов пишет: «Это другой прекрасный мир, прекрасный, но чужой. Чужой не только для Запада, для цивилизованного англичанина, он чужой и для России, для русского сознания, порой даже, как будто вжившись в него, вдруг понимает, что принять его, сделать своею жизнью не может. «Рассказ о том, как создаются рассказы» не только о том написан, как женщина, сделавшись женой писателя, превратилась в объект его поминутного наблюдения, стала материалом для романа. Это рассказ о Софье Васильевне Гнедых, вышедшей замуж за японского писателя Тагаки» [8, с. 29].
Кроме этой главной культурологической коллизии, которая затронута, в частности, в статье Ю.А. Яроцкой, можно выделить и другие особенности этого рассказа. Сюжет построен на том, что писатель находит в архивах советского консульства ходатайство о репатриации некоей Софьи Гнедых-Тагаки, которая просит разрешения вернуться на родину. В нем женщина описывает историю своего замужества и излагает причины, побудившие ее расстаться с мужем, известным писателем Тагаки.
Книгу мужа Софьи Гнедых, японского писателя по имени Тагаки, являющегося персонажем «Рассказа о том, как создаются рассказы» Пильняка польский издатель и критик Павел Дунин-Вонсович в своей книге «Призрачная библиотека, или Книги-химеры, или Сведения о книгах, которых не было, но о которых кто-то написал» (1997) приводит в качестве примера блестящей литературной мистификации. Именно вокруг этого романа и создаются все коллизии «Рассказа о том, как создаются рассказы».
Тагаки написал роман о европейской женщине, который имел огромный успех и принес ему славу. Он несколько лет наблюдал за своей русской женой, как исследователь за подопытным животным. Как пишет Пильняк, «…с клиническими подробностями был написан роман Тагаки – русским способом размышлял Тагаки о времени, мыслях и теле своей жены…» [6, с. 57].
Романа писателя Тагаки не существует в природе, однако подобное произведение вполне могло появиться на свет, если учесть, что в на- чале ХХ в. в японской литературе начало набирать силу так называемое «Движение за натурализм» (сидзэнсюги ундо), которое зародилось под влиянием западного, большей частью французского, натурализма и «теории экспериментального романа» Эмиля Золя.
«Исследовать человека, поставив его в определенные условия, и наблюдать изменения его психологического состояния – какая прекрасная возможность для писателя», – заявлял один из видных теоретиков японского натурализма Ха-сэгава Тэнкэй в своей статье «Экспериментальное направление». По мнению Кима Рёхо, особенности японского натурализма ярко воплотились в специфическом японском жанре ватаку-си сёсэцу - эго-беллетристике. Многие произведения писателей-натуралистов (Таяма Катай, Токуда Сюсэй, Ивано Хомэй и др.) стали ограничиваться «протокольно точным описанием плотских страстей, довольствоваться лишь отрывками жизни» [3, с. 592].
Несуществующий роман писателя Тагаки, бесстрастно наблюдавшего за своей женой и именно «протокольно точно» описавшего ее в быту, весьма близок к жанру эго-беллетристики. Авторы эго-романа, который Ким Рёхо считает порождением натурализма и признаком его кризиса, обычно предельно сосредоточены на собственных переживаниях и ощущениях, а среда изображается ими в узком бытовом плане. Этот факт позволяет предположить, что Пильняк знал о натуралистическом течении в японской литературе, поскольку во время поездки он много общался с представителями японской интеллигенции и японскими писателями.
Рассказ Пильняка предстает перед нами в виде двойной мистификации, поскольку плодом авторского воображения явилось не только письмо Софьи Гнедых-Тагаки, но и роман ее мужа. А.С. Кацев признает, что в 1920-х гг. было создано немало произведений, включающих в повествование различного рода документы или литературные имитации, исторические источники, но немногие из них, подобно этому рассказу Пильняка, стали художественным явлением [2, с. 115].
Таким образом, можно говорить о том, что «Рассказ о том, как создаются рассказы» свидетельствует не только о хорошем знании литературной ситуации в Японии того времени, но и являет собой пример мастерски исполненной литературной мистификации, подвластной только таланту такой величины, как Пильняк.
О.Д. Тугулова . Истоки жанра миниатюрного стихотворения 微型诗 и его теоретико-литературное осмысление