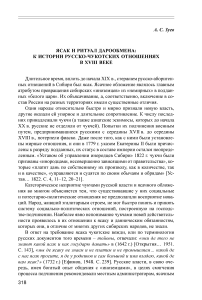Ясак и ритуал дарообмена: к истории русско-чукотских отношениях в XVIII веке
Автор: Зуев А.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521459
IDR: 14521459
Текст статьи Ясак и ритуал дарообмена: к истории русско-чукотских отношениях в XVIII веке
Длительное время, вплоть до начала XIX в., стержнем русско-аборигенных отношений в Сибири был ясак. Ясачное обложение являлось главным атрибутом превращения сибирских «иноземцев» из «немирных» в подданных «белого царя». Их объясачивание, а, соответственно, включение в состав России на разных территориях имели существенные отличия.
Одни народы относительно быстро и мирно признали новую власть, другие оказали ей упорное и длительное сопротивление. К числу последних принадлежали чукчи (а также азиатские эскимосы, которых до начала XX в. русские не отделяли от чукчей). Попытки их подчинения военным путем, предпринимавшиеся русскими с середины XVII в. до середины XVIII в., потерпели фиаско. Даже после того, как с ними были установлены мирные отношения, и они в 1779 г. указом Екатерины II были причислены к разряду подданных, их статус в составе империи остался неопределенным. «Уставом об управлении инородцев Сибири» 1822 г. чукчи были признаны «инородцами, несовершенно зависящими от правительства», которые «платят дань по собственному их произволу, как в количестве, так и в качестве», «управляются и судятся по своим обычаям и обрядам» [Устав… 1822. С. 4, 11–12, 20–21].
Категорическое неприятие чукчами русской власти и ясачного обложения во многом объясняется тем, что существовавшие у них социальные и потестарно-политические отношения не предполагали восприятие новаций. Народ, живший эгалитарным строем, не мог быстро понять и принять систему социально-политических отношений, построенную на господстве-подчинении. Наиболее явно непонимание чукчами новой действительности проявилось в их отношении к ясаку и данническим обязанностям, которых они, в отличие от многих других сибирских народов, не знали.
В ответ на требование ясака чукотские вожди, или по терминологии русских документов того времени – тойоны , отвечали: «они де того не знают какой ясак и как государю давать» в (1642 г.) [Открытия… 1951. С. 143], «мы де ясаку не знаем и не платим и не промышляем… какой де с нас ясак просите, я де у родников и сам большой и ими владею, какой де вам ясак?» (1732 г.) [Ефимов, 1948. С. 239]. Русские власти, в свою очередь, имея богатый опыт общения с «иноземцами», в целях смягчения процесса подчинения рекомендовали местным администраторам, ясачным 318
сборщикам и служилым людям «имать» на первых порах ясак в умеренном размере, «по скольку будет мочно », « чтоб им (иноземцам. – А. З.) было не в тягость и не в озлобление », а также раздавать «иноземцам», прежде всего их «лучшим людям», подарки – бисер, одекуй, ткани, металлические изделия и т. д. [Зуев, 2002. С. 57–58.].
В исследовательской литературе давно бытует мнение, что обмен ясака на подарки представлял собой меновую торговлю. Данная трактовка, однако, отражает лишь внешнюю сторону дела, модернизируя уровень социально-экономического развития и менталитет ряда сибирских народов, в том числе чукчей. Мы полагаем, что речь нужно вести не о меновой торговле, а о дарообмене.
До середины XVIII в. чукчи, настроенные весьма враждебно к русским, ясак почти не давали. Случаи выдачи ясака были единичными, и есть основания полагать, что в качестве такового местная (анадырская) администрация представляла военные трофеи. С середины XVIII в., с установлением мирных русско-чукотских контактов, чукчи стали давать ясак, но исключительно на добровольной основе. Да, и русская сторона с 1756 г. перестала настаивать на обязательной сдаче ясака. Важно отметить, что внося ясак, чукчи неизменно требовали подарков и без таковых его не давали. Практика обмена ясака на подарки была закреплена в ходе неоднократных переговоров представителей русской власти с чукотскими тойонами во второй половине XVIII в. В результате чукчи в отличие от почти всех сибирских народов (исключая, видимо, тундровых самоедов – ненцев) так и не восприняли ясак в его принудительном варианте. Причем русская власть с этим согласилась.
В 1779 г. чукчи были освобождены от ясачного обложения сроком на 10 лет. Когда эта льгота истекла, никаких правительственных указаний по поводу того, каким образом брать с чукчей ясак, не последовало. Власти все же поощряли их к внесению ясака, но на сугубо добровольной основе. С 1791 г. из средств Кабинета Е. И. В. ежегодно выделялась определенная сумма для приобретения товаров на подарки чукчам. Таким образом, обмен ясака на подарки в русско-чукотских отношениях был официально узаконен [Богораз, 1939. С. 55]. Такое положение сохранялось вплоть до начала XX в.
Однако чукчи, будучи освобождены от ясачного обложения, ясак, тем не менее, давали. Правда, увязывали эту процедуру с началом торговли с русскими. Эта торговля стала развиваться с середины XVIII в. на р. Анадырь, затем на рр. Гижига, Пенжина и Анюй. Возникла, казалось бы, парадоксальная ситуация: обитатели Чукотки, сто лет упорно сопротивляясь ясачному обложению, начали вносить ясак без всякого принуждения.
Объяснить данный феномен можно, если рассмотреть ясака, учитывая существовавшую в архаичных обществах практику дарообмена, которая играла огромную роль в межличностных и межгрупповых связах [Мосс, 1996]. Пока русская сторона силой навязывала чукчам систему данничес- ких отношений, они воспринимали русских как врагов. С прекращением силового давления бывший противник стал превращаться в партнера, прежде всего торгового. Заинтересованность в торговле с русскими у чукчей появилась в связи со становлением кочевого оленеводства.
Выстраивать и поддерживать мирные контакты с партнером чукчи стали в соответствии со своими представлениями о договорных отношениях, ключевую роль в которых играл дарообмен. Именно поэтому чукотские тойоны давали ясак, который с их точки зрения являлся даром ; более того они были уверены, что это был дар лично правителю русских – тырк-эре-му – «солнечному начальнику». От имени последнего, кстати, местная администрация выдавала чукчам подарки. Таким образом, по чукотским понятиям, происходил дарообмен между двумя «начальниками» – чукотским тойоном и российским монархом.
В источниках встречаются указания на то, что чукчи рассматривали русские подарки как демонстрацию уважительного к ним отношения, показатель мирных намерений русских и их правителей. Так, в 1798 г. чукотские тойоны , прибывшие в Гижигинскую крепость, выразили удовлетворение тем, что государь (т. е. император Павел I) прислал им подарки – значит «он их помнит и любит» [РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Кн. 638. Л. 45 об.]. Конечно, в дарообмене для чукчей была важна и «меркантильная» сторона. В 1792 г. чукотские тойоны Мучигинского и Улючинского селений в своем прошении о восстановлении Анадырского острога (ликвидированного русскими в 1771 г.) указали на то, что раньше при посредстве чукчей, плативших ясак в острог, все прочие «получали через мену разные нужные нам вещи: котлы, топоры, корольки, бисер и прочее, чем были довольны » [История Якутской АССР, 1957. С. 222–223].
Важно отметить, что обмен дарами чукчи производили, как правило, перед началом русско-чукотской торговли. При этом чукчи сначала получали подарки, а потом уже давали ясак. Такой порядок, скорее всего, был связан с тем, что русские для чукчей являлись гостями на их земле, а гость должен был первым преподнести свой дар. В свою очередь, и чукчи считали себя обязанными одарить русских, что соответствовало принятому у них этикету [Вдовин, 1976. С. 242].
Нередко русская сторона одаривала тойонов вторично – после получения ясака. Лишь проведя такой дарообмен, чукчи приступали к торгу. Но, если дары «солнечного начальника» их не удовлетворяли, они явно проявляли свое недовольство и торг не начинался. Можно предположить, что на дарообмен чукчи смотрели так же, как представители многих других народов: получивший дар обязан был отдарить дающего, а нарушившие это правило рассматривались как люди, с которыми не стоит иметь отношений [Мосс, 1996. С. 79; Ерискина. 2003. С. 84–88].
В чукотском языке ясак обозначается словом tæqænæŋ, которое имеет также значение «поклон», «подать» [Богораз, 1937. С. 143]. Это слово было зафиксировано В. Г. Богоразом, т. е. существовало у чукчей еще в конце XIX в. Присутствовало ли оно в данных значениях в лексике чукчей ранее, неизвестно. Но в любом случае, во второй половине XVIII в., да и в XIX в. чукчи не могли считать ясак выражением своего подданства и зависимости, поскольку этого реально не было. В то время ясак для них был формой ответного одаривания русских и их правителей, демонстрацией желания установить и поддерживать с ними мирные отношения. По сути, обмен ясака на подарки в глазах чукчей являлся особым ритуалом, предваряющим открытие торга и, кроме того, способом заключения мирного договора.