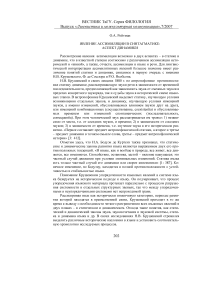Явление ассимиляции в синтагматике: аспект динамики
Автор: Ройтман Ольга Альбертовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120452
IDR: 146120452
Текст статьи Явление ассимиляции в синтагматике: аспект динамики
ЯВЛЕНИЕ АССИМИЛЯЦИИ В СИНТАГМАТИКЕ: АСПЕКТ ДИНАМИКИ
Рассмотрение явления ассимиляции возможно в двух аспектах – в статике и динамике, что в известной степени соотносимо с различением ассимиляции исторической и «живой», а также, отчасти, ассимиляции в языке и речи. Для лингвистической интерпретации ассимилятивных явлений большое значение имеет различение понятий статики и динамики, связанное в первую очередь с именами Н.В. Крушевского, Ф. де Соссюра и Р.О. Якобсона.
Н.В. Крушевский в своих лекциях 1880 г. по антропофонике противопоставил статику динамике, рассматривающую звуки речи в зависимости от временной последовательности, предполагающей как зависимость звука от смежных звуков в пределах конкретного звукоряда, так и судьбы звука в исторической смене языковых этапов. В антропофонике Крушевский выделяет статику, изучающую условия возникновения отдельных звуков, и динамику, изучающую условия изменений звуков, а именно изменений, обусловливаемых влиянием звуков друг на друга, или изменений комбинационных (сосуществование, coexistentia) и обусловливаемых временем или изменений спонтанеических (последовательность, consequentia). При этом человеческий звук рассматривается им трояко: 1) независимо от места, т.е. от соседних звуков, и времени; 2) в зависимости от соседних звуков; 3) в зависимости от времени, т.е. изучение звука в его историческом развитии. «Первое составляет предмет антропофонической статики, а второе и третье – предмет динамики в точном смысле слова, третье – предмет антропофонической истории» [3: 412].
Отметим здесь, что И.А. Бодуэн де Куртенэ также признавал, что статические и динамические законы развития языка являются выражением двух его противоположных тенденций. «В языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный случай движения при условии минимальных изменений. Статика языка есть только частный случай его динамики или скорее кинематики» [1: 387]. Конечное изменение, по Бодуэну, находится в полной противоположности с устойчивостью и стабильностью языка.
Понимание Крушевским упорядоченности языковых явлений в системе языка базируется на историческом подходе к языку. Он подчеркивает, что процесс упорядочения языкового материала протекает параллельно с процессом разрушения системности в отдельных структурных звеньях, так что между упорядоченными и неупорядоченными системами нет непроходимой грани.
Рассматривая язык как исторически изменчивую категорию, периоды развития которой находятся в преемственной связи, Крушевский приходит в то же время к выводу о необходимости четкого разграничения всех языковых явлений в двух планах – в статическом и динамическом. Отсюда такие понятия, как статический и динамический законы звука, звукосочетания и звуковой системы, статика и динамика языка и др. В своих исследованиях Н.В. Крушевский стремился выделить различные исторические наслоения в языке и установить соотносительную хронологию исследуемых процессов.
В учении Соссюра и его учеников, противопоставление статики и динамики, языка и речи, системности и бессистемности, оси одновременности и оси последовательности соответствовало разграничению понятий синхронии и диахронии. Такое приравнивание синхронии и статики подверглось серьезной критике, особенно со стороны Р.О. Якобсона, возражавшего «против упорного мнения о статичном характере языкового кода» [5: 313] и признававшего динамику как неотъемлемое свойство языка «в любой момент его существования, в том числе и в синхронии».
«Связь статики и динамики – это одна из основных диалектических антиномий, составляющих самую суть языка. Без учета этого противоречия невозможно понять диалектику языкового развития. Попытки отождествить, с одной стороны, синхронию , статику и сферу приложения телеологии , а с другой – диахронию , динамику и сферу механической причинности неправомерно сужают рамки синхронии, превращают историческое языкознание в конгломерат разрозненных фактов и создают призрачную и вредную иллюзию о пропасти, разделяющей проблемы синхронии и диахронии» [6: 332].
Послесоссюровская лингвистика опровергла соссюровское отождествление дихотомий «синхрония versus диахрония» и «статика versus динамика» и пополнила соссюровскую модель языка, рассматривающую язык как статичную систему, «динамической картиной разнообразного изменчивого кода, в которой присутствует как многофункциональность языка, так и временные и пространственные факторы, исключенные Соссюром из системы языка» [7: 383].
В данной статье динамика, имеющая смысл близости, обозначает период, непосредственно затрагивающий людей, а статика – «период завершения, пространство, где все находит свой предел». При этом статика сливается с динамикой, исчезает в ней, так что оба временных периода неразделимы. Особое значение приобретают дихотомии «статика-динамика» и «парадигматика-синтагматика». Использование такой двоичной классификационной системы вносит упорядоченность, но вместе с тем в этом порядке содержатся элементы дисгармонии, объясняющие его постоянное нарушение. Внутренне обе системы не являются статичными: их элементы постоянно находятся между собой в сложном и противоречивом противодействии.
С динамической точки зрения ассимиляция характеризуется как процесс, в отличие от статичных, «застывших» форм слова, в которых мы имеем дело с результатом ассимилятивного действия. Отличительной чертой ассимиляции в динамике является незавершенность процесса, отражаемая в вариативности звуковых элементов, в сосуществовании двух произношений, одно из которых обусловлено действием ассимиляции.
В живом языке слово «всегда связано с другими словами и несет на себе смысловую энергию того целого, куда это слово входит вместе с прочими, и эту связанность с целым необходимо отметить и зафиксировать терминологически. Это есть синтагма слова, синтагматический слой в семеме» [4: 39]. В синтагматическом плане, т.е. в потоке речи, действует ассимиляция, которую Д. Джоунз называет контекстуальной [9: 130], а И. Уорд – «соположенной» (juxtapositional assimilation) [11: 194].
Признаковая база ассимиляции согласных в синтагматике включает следующие группы признаков: а) место образования, б) способ образования звука, в) участие голосовых связок.
А. Ассимиляция по месту образования согласного дает следующие переходы: 1) n > m под влиянием последующего [p, b, m] 2) n > ŋ перед [g, k]; 3) m > ŋ перед [g, k]; 4) d > b перед [b, m, p]; 5) d > g перед [p, b, m] или [g, k]; 6) t > k под влиянием последующих [k, g]; 7) t > p перед [p, b, m].
-
1) Переход n > m под влиянием последующего [p, b, m] наблюдается на стыке, например, следующих слов: te n m inutes; o n e m ore; o n m e; i n b usiness; go n e p ast; go n e b ack; te n m en; do n e p rofessionally; i n b ed; o n p urpose; Ti n P an Alley . Некоторые британские фонетисты отмечают, что в быстрой непринужденной или небрежной речи [n] переходит в [m] не только перед , но и после [p, b, m] [8: 143].
-
2) Переход n > ŋ перед [g, k]: te n k ings, o n course, i n c amp, he ca n g o, i n q uite, ca n g et , Mexica n g ames, bee n c oncentrating ; I do n ’t c are, o n e c up , mai n g ate .
-
3) m > ŋ перед [g, k]: I’ m g oing,, I’ m c oming , I’ m c onscious , I’ m g rateful [2: 59-60].
-
4) d > b перед [b, m, p]: you’ d b etter; goo d b oy; goo d m orning ; woul d b e; a goo d m an; goo d p eople; har d p roblem; har d b low; broa d b eans; hundre d p ounds; vangar d m ovement; sai d P iglet; har d p ath ; I ha d p lenty ; which ha d b een left; it woul d b e prudent .
-
5) d > g перед [g, k]: a goo d c ook ; Goo d G od ; a goo d g irl ; sala d c ream ; har d c ase ; har d g round ; armoure d car ; ba d c old ; re d g ate .
-
6) t > k под влиянием последующих [k, g]: ge t g oing; tha t k ind ; tha t g olfer; tha t girl ; a t G lassgow ; whi t e c oat ; wha t k ind .
-
7) t > p перед [p, b, m]: righ t p lace ; brigh t b oy ; tha t p lace ; tha t b ook ; whi t e b ird; no t me .
Б. Ассимиляция по способу образования согласного реализуется в виде переходов: 1) s > * перед [j, * , С* ]; 2) z > G перед [j, * , С ]; 3) t * > t перед [j]; 4) d > d G перед [j]. Ассимилятивные переходы s > * , z > С , а также tj > t * , dj > d G перед [j] иногда называют «сращенной ассимиляцией» ( coalescent assimilation ) [12: 55].
-
1) Переход s > * наблюдается перед [j, * , G ] в just shut the door ; this year; this shop; six yards ; yes, you can ; in case you forget ; once you get going ; face your friend ; nice shoes ; Goodge Street .
-
2) Переход z > G перед [j, * , G ] наблюдается в следующих комбинациях слов: the s e sh oes ; the s e sh ops ; tho s e sh ops; where’ s y ours in all the s e y ears ; plea s e, sh ut the door ; a s y ou like ; a s y et ; doe s sh e ; i s y our box ready?; are the s e y our books?; butcher’ s sh op; Financial Time s Sh are .
-
3) Переход t > t * перед [j] в can’t you do it; about you; wouldn’t you .
-
4) Переход d > d G в would you ; could you; did you ; mind, you .
-
В. Ассимиляция по глухости/звонкости затрагивает переходы: 1) z > s перед глухими согласными; 2) v > f перед глухими согласными; 3) d > t перед [θ].
-
1) Перед глухими согласными осуществляется переход z > s в his sister; his socks ; is staying ; is trying ; he has to .
-
2) Перед глухими согласными звук v переходит в f (переход v > f) в следующих примерах: have to do; five past two .
-
3) Перед [θ] звук d переходит в t , т.е. d > t: I should think so .
В быстрой неформальной речи типично действует ассимиляция согласных [t, d, n] перед велярными или лабиальными согласными. При этом происходит переход [t] + [b], [t] + [m] > [m?pb], [?pb], [?pm], так что [t] не реализуется – вместо него появляется гортанный приступ, например: amount by [ *^mau?p bai], Great Britain [^grei?p ^brit^n], thirty feet wide [^0з: ti 'fi:?p^waid]» [2: 58].
Заметим, что «англичане не заменяют сильные согласные слабыми в словосочетаниях типа black box , great day », которые произносятся [ ^ blsk ^ boks], [ ^ greit ^ dei], а не [ ^ blsg ^ boks], [ ^ greid ^ dei]» [10: 103]. В быстрой небрежной речи последовательности согласных [nt] и [nd], встречаясь перед последующими губно-губными и заднеязычными согласными, могут преобразовываться соответственно в [mp] или [ŋk] и в [mb] или [ŋg], придавая слову «экзотическую» произносительную форму: в pla nt p ot; sta nd b ack; pla nt c arrots; sta nd g uard; was n’t g ood enough; differe nt k inds; he was n’t b eing nasty . Аналогичным образом последовательности [dnt] и [tnd] могут изменяться «вплоть до неузнаваемости», а именно - [dnt], [tnd] > [gŋk], [bmp], например, в coul dn’t c ome; coul dn’t b e; ha dn’t t old .
Во многих случаях ассимиляция действует совместно с элизией. Так, soft cloth в полной форме звучит как [ ^ soft ^ klo0]; при ассимиляционном воздействии: [ ^ sofk ^ klo0]; при наличии элизии: [ ^ sof ^ klo0|. Или: steak and kidney [ ^ steik у ^ kidni], by and by [ ^ bai * m ^ bai], the small marrows have far more flavour and can be cooked in a number of ways [d *^ soft ^ msrouz hsv ^ fa: ^ mo: ^ fleiv * * y k ★ m bi ^ kukt in ★ ^ nЛmbдr * v ^ weiz]; it won’t catch fire [it ^ wouyk z^ kst * ^ fai * ], [it ^ wouy ^ kst * ^ fai * ]; don’t be late [ ^ doump bi ^ leit]; second group [ ^ sek * y ^ gru:p]; stand by [ ^ stsmb ^ bai]; I don’t believe it [ai ^ doum(p) ^ bli:v it]; won’t go ['wouy?k ^ gou]; stay in your seats [ ^ stei m jo ^ si:ts].
Изложенные языковые факты свидетельствуют о широком, всепроникающем действии ассимиляции и о «причудливости» возможных результатов этого действия. В ряде случаев избыточная степень ассимиляции может приводить к неоднозначности высказывания и, соответственно, к непониманию: come and sip/sit by the fire [ ^ kAm m ^ sip bai d * ^ fai * ]; you need some hop/hot manure [ju ^ ni:d sm ^ hop m *^ njuд|; they are a pair ofripe/rightfoolz [de * ^ raip ^ pe * * v ^ fu:lz] [12: 55].