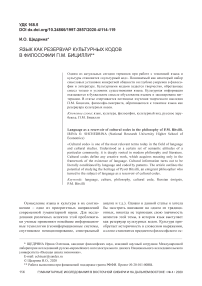Язык как резервуар культурных кодов в философии П.М. Бицилли
Автор: Щедрина Ирина Олеговна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Одним из актуальных сегодня терминов при работе с тематикой языка и культуры становится «культурный код». Понимаемый как некоторый набор смысловых установок конкретной общности он глубоко укоренен в философии и литературе. Культурными кодами задается творчество, обретающее смысл только в условиях существования языка. Культурная информация оказывается в буквальном смысле обусловлена языком и закодирована паттернами. В статье очерчивается потенциал изучения творческого наследия П.М. Бицилли, философа-эмигранта, обратившегося к тематике языка как резервуара культурных кодов.
Язык, культура, философия, культурный код, русское зарубежье, п.м. бицилли
Короткий адрес: https://sciup.org/170175960
IDR: 170175960 | УДК: 168.5 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-4/114-119
Текст научной статьи Язык как резервуар культурных кодов в философии П.М. Бицилли
Осмысление языка и культуры в их соотношении – одно из приоритетных направлений современной гуманитарной науки. Для исследования различных аспектов этой проблематики ученые применяют новейшие информационные технологии (геоинформационные системы, спутниковое позиционирование, спектральный анализ и т.д.). Однако в данной статье я хотела бы заострить внимание на одном из традиционных, никогда не теряющих свою значимость аспектов этой темы, в котором язык выступает как резервуар культурных кодов. Культура приобретает историчность в словесном выражении, а слово становится предметом философского ос- мысления. Носитель определенной культуры ‒ это в первую очередь носитель именно языка. Этот аспект сегодня весьма актуален в условиях глобализации, размывания национальных языков и традиций. Язык – не просто средство передачи информации, но хранитель национальной культуры, духовного опыта и исторических традиций самосохранения этноса.
Соотношение языка и культуры становилось предметом исследований многих представителей философской интеллектуальной элиты в разные исторические периоды. Но в данном случае для нас важна не только сама тема, но и фигура философа, поскольку мы хотим понять, как влияет местонахождение мыслителя на его тематические предпочтения и концептуальные установки. Мы обратимся к наследию ученого-гуманитария Петра Михайловича Бицилли (1979–1953), которого можно с равным успехом назвать и философом, и историком, и филологом. Эмигрировавший в 1920 г. в Сербию, а затем в 1924 г. в Болгарию, до конца жизни он не терял связь с родной культурой и родным языком, поддерживал общение с коллегами и друзьями, о чем свидетельствует его обширная переписка (см.: [13]). И тем не менее, именно эмиграция изменила направление интеллектуальных траекторий П.М. Бицилли. Существование в чужой национальной среде меняет тематические предпочтения и сферу исследовательских интересов. Человек, который находится вне собственной культуры (именно на уровне локации), начинает куда более пристально относиться и к ней, и ко всем связанным с нею контекстам, которые ранее могли казаться повседневными. Находясь в состоянии культурной «заброшенности», с одной стороны, и интеллектуальной «разбросанности», мыслители-эмигранты стремились сформировать свой «русскоговорящий» мир, в котором они могли чувствовать себя представителями отечественной философской мысли.
Этот опыт создания специфического мира в рамках другой культуры представляет в настоящее время особый интерес. В процессе целостного осмысления интеллектуальной культуры русского зарубежья оказываются важны каждая деталь, каждое событие, каждый собеседник. В этом, пусть искусственно созданном мире жили мыслители, имеющие самые разные взгляды и концепции, однако их объединяло общее языковое поле «разговора»; философы понимали друг друга не только потому, что го- ворили на русском языке (тем более, что многие издавали свои статьи и книги и на других языках), но главным образом потому, что понимали философское слово друг друга.
Философия культуры того времени была обусловлена кризисной ситуацией, в которой они вынуждены были размышлять и жить. П.М. Бицилли не стал исключением: обычаи, традиции, религия, литература, язык ‒ все это становится предметом его внимания, размышлений и исследований. Можно сказать, что культурно-исторические условия были заложены в основание идейных предпосылок и теоретических выводов философии Бицилли, а о важности общения в интеллектуальных кругах, о важности разговора как фактора, консолидирующего отдельных представителей конкретной культуры, писал и он сам: «Рассеянная по своим “гнездам”, в редких случаях объединявшаяся в малочисленных замкнутых “кружках”, русская интеллигенция в течение очень долгого времени была лишена возможности живого, непосредственного обмена мыслями. Известна роль, сыгранная в Европе в качестве культурного фактора разговором. Значение “разговора” сознавалось и в России. Писать так, “как мы между собою говорим”, было требованием, выдвинутым уже Тредиаковским» [11, с. 304].
Находясь в эмиграции, и Бицилли и другие философы обратились к журналам и статьям как к возможности научного межкультурного общения. Вообще очень характерным для ХХ в. стало отношение к некоторому научному событию как к специфическому интеллектуальному пространству на фоне кризисных условий (выступления на международных конгрессах, конференциях, открытые сообщения и лекции). Разбросанные по городам и странам, философские собеседники обменивались письмами, книгами и мыслями о судьбе отечественного языка и культуры. Так, в статье «Трагедия русской культуры» Бицилли писал: «Колоссальные размеры полученного Россией наследства и полная свобода распоряжения им – что объясняется вовсе не отсутствием культурной традиции (потенциально русский народ принадлежал всегда к европейскому культурному кругу, будучи связан с ним единством веры, основою и источником культуры; культурная же традиция в подобных случаях усваивается сразу и полностью), но отсутствием порожденной культурою рутины – обусловили собою необычайное, исключительное совершенство русской культуры.
Она явилась подлинной культурой свершений, осуществлений, апогеем европейской культуры. Для того чтобы убедиться в этом, недостаточно засвидетельствовать факт все усиливающегося ее влияния: ибо каждая культура в момент своего расцвета неотразимо воздействует на другие. К тому же влияние это все еще далеко не соответствует собственной ценности русской культуры: Пушкин остается вне России неведомой величиною. Культурные факты должны быть оцениваемы сами по себе» [11, с. 298‒299]. Русский язык – и, соответственно, русская литература – как источник культурных кодов легли в основу философских концепций в интеллектуальной традиции русского зарубежья.
В самом деле, Бицилли подчеркивает: философия невозможна без культурных и языковых оснований. Он не только посвящает собственные труды этой тематике, но постоянно пишет рецензии и отзывы на философские, исторические, профессионально-исследовательские и художественные работы соотечественников: [3; 4; 5]. Сосредоточив внимание на статьях Бицилли, можно сказать о влиянии теоретических построений мыслителя на его публицистические работы и нарратив в целом. Разрабатывая тему языка как одну из ключевых составляющих русской культуры (и культуры в целом), ученый издавал статьи в «Современных записках», «Новом граде», «Звене», «Числах» и других журналах, а также монографии [9; 12]. Исключительное значение в данном случае имеет личность самого философа, его готовность жить и работать так, «как будто история никогда не кончится, и в то же время так, как если бы она кончилась сегодня» [17, c. 322]. Фактически, благодаря работам Бицилли можно выявить и культурно-философский смысл социально-политических и интеллектуальных дискуссий различных направлений и течений в интеллектуальном сообществе русского зарубежья; увидеть их истоки, очертить тематические предпочтения и идейные противоречия в вопросах о России, евразийстве, литературе и языке (подробнее см.: [6; 8]). Обращаясь к русской культуре и русскому языку, Бицилли обозначает и высоту заданного уровня: «У каждого народа, наряду с великими писателями и одновременно с ними, имеются и невеликие – средние и малые. Но у каждого народа, обладающего классической литературой, существует известный уровень литературной грамотности, ниже которого не спускается ни один из пишущих – уже просто потому, что в противном случае он не нашел бы ни издателя, ни читателя. В России такого уровня не было и нет» [11, с. 301].
Хотя Бицилли является не столь известным представителем философии русского зарубежья, его идеи в настоящее время раскрываются и звучат очень современно (подробнее см.: [14; 18]). Внимание к языку как к резервуару культурных кодов в контексте философских работ Бицилли более чем оправдано: в процессе анализа затрагиваются специфические, национальные и культурные аспекты: национальное сознание, просветительская деятельность представителей духовной культуры, и, что особенно актуально, осмысление культурного кризиса. Этот кризис, обоснованный и внешними обстоятельствами (конфликты, войны, эмиграция) и внутренними (непримиримые противоречия представителей культуры) становится предметом исследований и в современной философии [15]. Можно ли сказать, что культурные коды поменялись за столетие? Ведь Бицилли осмысляет целую культурную традицию, ту традицию, что уже на тот момент имеет за собой века. Мы можем взглянуть на это со стороны, фактически, как смотрел и он сам ‒ поскольку минуло еще сто лет, а поднятые проблемы по-прежнему находятся в статусе актуальных [2; 6; 7]. Кроме того, соотношение языка и культуры в том виде, в каком его рассматривал Бицилли, приобретает новые ракурсы в современных условиях широкого развития СМИ, интернета как специфического социокультурного пространства и глобализации в целом (см.: [16]). В научном сообществе это так же звучит по-новому, особенно теперь, когда в условиях пандемии конгрессы и конференции перешли на онлайн-формат встреч и международного общения, трансформируя тем самым язык мировой коммуникации онлайн.
Язык в данном случае играет двоякую роль, поскольку Бицилли настаивал на индивидуации творческого усилия в рамках определенной культуры: «В плане культуры возможно устремление к общим целям, большее или меньшее подчинение общим приемам, сообразование с общими образцами, но невозможны распределение функций, разделение труда; возможно взаимодействие, но немыслимо сотрудничество. Каждый продукт культуры – individuum, столь же единственный и неповторимый, как и его создатель» [11, c. 306]. По мысли философа, большие писатели, писатели-художники
‒ как, например, Чехов, Достоевский, Пушкин, Рильке, Пруст ‒ «принадлежат вечности», но не времени.
Говоря о внутрикультурном и межкультурном взаимодействии необходимо затронуть еще один важный аспект ‒ язык и понимание, герменевтический ракурс в контексте культурных кодов ‒ к которому обращались и Бицилли с его современниками, и более поздние поколения философов-исследователей. Так, рассуждая о языке, культуре, переводе и понимании, Н.С. Автономова пишет: «Упрек, который некогда Лотман обратил к Якобсону с его концепцией коммуникативного акта, предполагающей у двух общающихся людей один общий язык: в реальном функционировании культуры один язык и один код ‒ это не правило, но редкое исключение, так что процесс понимания как практики и познания постоянно имеет дело с реальным многоязычием» [1, с. 577]. Художественный язык, национальный язык и объединяет культуру в целое, консолидирует ее (выступая как фактор культурных кодов), но, в то же время, он делает ее индивидуальной, обособляя среди остальных ‒ и тем самым очерчивая границы. В статье «Нация и язык» Бицилли раскрывает этот момент в контексте всех разновидностей произведений искусства: «Язык есть то, что в наибольшей степени, с одной стороны, связывает людей, с другой, ‒ разделяет. Мадонна Рафаэля и Парсифаль ‒ общечеловеческие ценности: их может “понять” всякий сколько-нибудь развитой человек. Но “Медный Всадник” “понятен” только тому, кто знает русский язык, как “свой собственный”, т.е. кто в известной степени является русским. Пушкин, Мильтон, Гёте, Данте ‒ непереводимы и, строго говоря, наглухо закрыты для тех, кто не в состоянии читать их в подлиннике» [8, с. 404]. В одной из своих работ ученый вспоминает О. Конта с его идеей о мировом идеальном строе, который объединил бы все человечество и в котором поэты писали бы только на самом благозвучном из всех языков ‒ итальянском [10, c. 108]. Однако он же признает утопичность и даже беспомощность этой идеи, поскольку ‒ очевидно ‒ язык задает огромную часть культурного наследия наций и государств.
П.М. Бицилли работал в условиях масштабных социальных потрясений, однако в этом опыте состояла сильная черта его философской мысли: он буквально проживал то, о чем писал. Крупный знаток истории, философии и фило- логии, он мог позволить себе сказать: «Столь полное осуществление на земле чистой Культуры – величайшее чудо и величайшая редкость. В этом отношении с русской литературой могут быть сопоставлены разве только русская же и немецкая музыка и греческая философия. <…> Чудо Культуры – ее собственный смысл» [11, c. 308]; «культура и есть творимая, становящаяся национальная душа» [11, c. 309]. В ситуации сильнейшего духовного кризиса он стремился осмыслить его и противостоять, насколько это было возможно в его положении. Отсюда и главная, по его мнению, угроза для социального организма ‒ гибель культуры. Ситуация, выйти из которой, по мнению Бицилли, можно только благодаря духовным усилиям людей ‒ тех, кто готов противостоять процессам распада и разрушения культуры, языка, нации. И в этом смысле язык как резервуар культурных кодов, сохранение его в целости и общей целостности, позволяет увидеть идеал личностного выбора ученого и философа русского зарубежья ‒ оказавшегося вне культуры и все же пребывающего в ней. Идеи П.М. Бицилли заслуживают того, чтобы сегодня к ним обращались в культурно-историческом контексте, когда важнейшие категории философии культуры находятся в состоянии перманентной исторической и ценностной трансформации.
Список литературы Язык как резервуар культурных кодов в философии П.М. Бицилли
- Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- Бицилли П.М. Проблемы современности // Современные записки. 1936. Кн. LXII. С.382-392.
- Бицилли П.М. Рец.: Fedor Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Leipzig: Gotthelf-Verlag, 1934 // Современные записки. 1934. Кн. LVI. С. 436-438.
- Бицилли П.М. Рец.: В. Сирин. «Приглашение на казнь»; Его же. «Соглядатай». Париж, 1938 // Современные записки. 1939. Кн. LXVIII. С.474-477.
- Бицилли П.М. Рец.: В.В. Виноградов: Язык Пушкина (Пушкин и история русского литературного языка). Academia, 1935 // Современные записки. 1935. Кн. LIX. С. 478-479.
- Бицилли П.М. К пониманию современной культуры. Проблема универсального языка // Современные записки. 1932. Кн. XLIX. С. 318-334.
- Бицилли П.М. Кризис истории // Современные записки. 1935. Кн. LVIII. С. 328-335.
- Бицилли П.М. Нация и язык // Современные записки. 1929.№ 40. С. 403-426.
- Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. Прага: Пламя, 1925.
- Бицилли П.М. Пушкин и проблема чистой поэзии // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры: исследования, статьи, рецензии. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 54-120.
- Бицилли П.М. Трагедия русской культуры // Современные записки. 1933. Кн. LIII. С.297-309.
- Бицилли П.М. Этюды о русской поэзии: Эволюция русского стиха; Поэзия Пушкина; Место Лермонтова в истории русской поэзии. Прага: Пламя, 1926.
- Галчева Т.Н., Голубович И.В. «Понемногу приспособляюсь к "независящим обстоятельствам"». П.М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. София: Солнце, 2015.
- Ермичев А.А. Философское содержание журналов русского зарубежья (1918-1939 гг.). СПб.: РХГА; Вестник, 2012.
- Порус В.Н. У края культуры (философские очерки). М.: Канон+, 2008.
- Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. Международный философский конгресс как феномен «Другой глобализации» // Вопросы философии. 2019. № 3. С. 33-39.
- Федотов Г.П. Новый град: сборник статей. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.
- Щедрина И.О. «Культур безъязычных нет», или Об актуальности методологической стратегии П.М. Бицилли // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2020. Т. 36. № 3. С. 564-571.