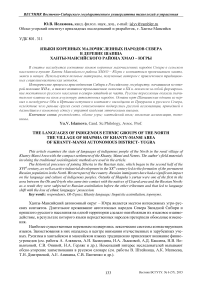Языки коренных малочисленных народов Севера в деревне Шапша Ханты-Мансийского района ХМАО - Югры
Автор: Исламова Ю.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется состояние языков коренных малочисленных народов Севера в сельском населенном пункте Ханты-Мансийского района ХМАО - Югры с компактным проживанием ханты, манси и ненцев. Используются полевые материалы, полученные автором с привлечением традиционных социолингвистических методов. Исторические процессы присоединения Сибири к Российскому государству, начавшиеся во второй половине XVI в., а также активное промышленное освоение в XX в. повлекли за собой формирование постоянного русского населения в северо-западной ее части. Русские переселенцы оказали значительное влияние на язык и культуру автохтонных народов. Остяки юрт Шапшинских одними из первых в междуречье Оби и Иртыша вступили в контакт с выходцами из Приуралья и русского Севера, вследствие чего раньше других своих соплеменников подверглись русской ассимиляции, приведшей в дальнейшем к языковому сдвигу с утратой владения этническими языками.
Респонденты, обские угры, хантыйский язык, языковая ассимиляция, топонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/142143127
IDR: 142143127 | УДК: 801.
Текст научной статьи Языки коренных малочисленных народов Севера в деревне Шапша Ханты-Мансийского района ХМАО - Югры
Ханты-Мансийский автономный округ ‒ Югра является местом интенсивных угро-русских контактов. Длительное проживание автохтонных народов Севера Западной Сибири и пришлого русского населения на одной территории сделало неизбежным их языковое взаимодействие, в результате которого языки неродственных народов претерпели обоюдные изменения.
Наиболее существенным переменам подверглись лексические системы контактирующих языков. Заимствования в них оказались в центре внимания отечественных и зарубежных ученых. Русизмы в хантыйском и мансийском языках традиционно привлекают внимание финно-угроведов (см. работы А. Алквиста, А.Н. Баландина, Н.А. Лысковой, А.Д. Каксина, Н.В. Но-вьюховой, С.В. Ониной, Н.А. Герляк и др.). Неменьший интерес исследователей вызывают обско-угорские заимствования в русском словаре (см. работы В. Штейница, А.К. Матвеева, Т.Н. Дмитриевой, А.Е. Аникина, С.В. Панченко и др.).
В целом в научной литературе дается позитивная оценка воздействию русского языка на аборигенные языки региона. Н.А. Лыскова отмечает, что в результате межэтнического контактирования ханты приобрели положительный опыт приобщения к культуре русского народа и шедеврам мировой цивилизации [6]. Н.А. Герляк приходит к выводу о том, что среди других контактных языков русский язык как язык более развитой нации оказал наибольшее влияние на обско-угорские языки [1].
Одобрительное отношение к русским заимствованиям в обско-угорских языках вполне закономерно. Они вошли в словари коренных этносов Севера Западной Сибири вместе с обозначаемыми ими реалиями материального и духовного бытия, отсутствующими прежде в жизни аборигенного населения. Появление новых пластов лексики в хантыйском языке: обозначений хозяйственной жизни и быта, слов из области социальной организации, художественной и культурной жизни [3], способствовало обогащению хантыйского словаря, а также расширению языковой картины мира аборигенного населения. Это утверждение справедливо и для языков других автохтонных этносов.
Общие факторы заимствования лексики хорошо известны. Л.П. Крысин среди прочих выделяет интенсификацию отношений между странами и их затухание, взаимодействие социальных, психологических и культурных предпосылок для процесса заимствования [4]. А. Мартине считает распространение языка «побочным продуктом военной, политической, религиозной, культурной, экономической или просто демографической экспансии народа, чьим орудием общения и является данный язык. Язык одолевает своих соперников не в силу каких-то своих внутренних качеств, а потому, что носители его являются более воинственными, фанатичными, культурными, предприимчивыми» [7]. Не вызывает сомнения, что русизмы в языке обских угров являются результатом интенсивных экономических и культурных контактов этносов. Об этом свидетельствует разнообразие тематических групп заимствованной лексики.
Очевидно, что языковые контакты русских и обских угров не ограничиваются лексическим взаимодействием и выходят за рамки уровня языковой структуры. Несмотря на положительное влияние русского языка на лексический строй хантыйского и мансийского языков, распространение языка этнического большинства привело к сокращению их функций и повлекло за собой языковую ассимиляцию коренного населения.
Критическое состояние языков коренных малочисленных народов Севера (далее ‒ КМНС) ХМАО ‒ Югры, отмечаемое в последние десятилетия, побудило к исследованию их функционирования. В работах А.П. Зенько, С.Б. Кошкаревой, С.Х. Хакназарова, Ю.В. Исламовой и др. были проанализированы языковые ситуации отдельных территорий ХМАО ‒ Югры. В задачи настоящего исследования входит изучение языковой компетенции автохтонных жителей дер. Шапша.
Попытка комплексного анализа современного состояния языков КМНС потребовала привлечения методов анкетирования, интервью, непосредственного наблюдения над живой речью информантов. В результате социолингвистического исследования была получена разноплановая информация, позволившая сделать объективные выводы относительно положения миноритарных языков в названном населенном пункте.
В силу своего географического расположения область междуречья Оби и Иртыша, которую в настоящее время занимает Ханты-Мансийский район ХМАО ‒ Югры, подверглась русскому освоению раньше, чем другие территории. Именно здесь в XVII в. проходили наиболее оживленные пути, соединяющие Европейскую Россию и Сибирь.
Дер. Шапша находится в 28 км от города окружного значения Ханты-Мансийска. Населенный пункт является центром одноименного сельского поселения, включающего в себя деревни Зенково, Ярки и Базьяны. Шапша – один из немногих населенных пунктов Ханты-Мансийского района, соединенных автомобильной дорогой с «большой землей», благодаря чему жители имеют возможность выезжать за его пределы. Регулярное транспортное сообщение, близость к крупному населенному пункту предопределили этническую судьбу Шапши, что, в свою очередь, отразилось на функционировании языков КМНС, расселенных в данной местности.
Более 300 лет назад территория, на которой располагается Шапша, принадлежала хантам – коренным жителям Севера Западной Сибири. Постоянное русское население в Междуречье Оби и Иртыша начало формироваться в конце XVII в. Первые переселенцы прибыли в Сама-ровский ям из Поморья для организации ямской гоньбы. Первоначально ямским охотникам не платили жалованья, но отвели земли «по пятнадцати верст на все четыре стороны», чтобы они могли прокормиться сами. Почва в Самарово оказалась непригодной для земледелия, поэтому у жителей яма была острая потребность в хлебородной земле. В то же время остяки нуждались в деньгах. Интересы пришлого и автохтонного населения совпали. С налаживанием ямщицкого дела у жителей яма появилась финансовая возможность покупки земель. Сначала они получали земли, принадлежавшие остякам, в заклад, а затем и в полное владение. Х.М. Лопарев писал: «С XVII века обнаруживается любопытное явление сосредоточивания остяцких земель в руках русских ямщиков, явление, оправдываемое законами истории, по которым народы низшей культуры становятся в зависимость от соседних народов культуры высшей» [5]. В 1686 г. остяки из юрт Шапшинских заняли у ямщиков Сумкина, Змановского, Корепанова и Погадаева 10 рублей для покупки хлеба и уплаты ясяка, заложив им свою землю в протоке Неулевой с условием совместного владения всеми ловлями (местами рыбной ловли), сенокосом и пастбищами. Талимковские остяки за 10 р. уступили Коневу свой остров в протоке Неулевой со всеми его ловлями и сенокосом. В 1728 году земля при Неулевой окончательно перешла самаровским ямщикам [там же]. Этот год считается годом основания дер. Шапша».
Ее население постепенно увеличивалось. Возросла доля некоренных жителей. В настоящее время в населенном пункте зарегистрировано 720 человек. Русские и представители других национальностей составляют 92 %. 8 % от общего количества – коренные народы Севера: ханты – 80 %, ненцы – 12 %, манси – 7 %, селькупы – 1 %.
Демографический анализ показывает, что практически все автохтонные жители в настоящее время метисированы. Большинство из них происходят из смешанных семей, в которых один из родителей, как правило отец, русский. Выходцы из русско-хантыйских, русско-мансийских и русско-ненецких семей также стремятся создавать аналогичные брачные союзы, тем самым способствуя дальнейшему физическому ассимилированию своего этноса.
Раскрывают картину этнической ассимиляции сведения об отношении респондентов к языку своего этноса. Подавляющее большинство опрошенных (90 %) своим родным считают русский язык; 6,7 % – мансийский; 6,6 % – хантыйский и ненецкий. Сопоставление этой информации с данными о национальной принадлежности респондентов показывает, что в подавляющем большинстве их родной язык не совпадает с языком национальности. Количество респондентов-хантов, назвавших русский язык родным, многократно превосходит количество его носителей.
Таблица
Показатели соотношения представителей КМНС с данными о родном языке респондентов
|
Национальность |
Количество представителей от общей массы респондентов (%) |
Респонденты, считающие этнический язык родным (%) |
|
Ханты |
76,7 |
3,3 |
|
Манси |
13,3 |
6,7 |
|
Ненцы |
6,7 |
3,3 |
|
Селькупы |
3,3 |
3,3 |
Отношение респондентов к языку своей нации соотносится с данными о языковой компетенции КМНС. Только 10 % КМНС от общей массы респондентов владеют этническими языками, демонстрируя разные уровни их использования. Свободно владеют родным языком и предпочитают его в общении 3,3 % респондентов; 6,7 % владеют языком, но в коммуникации предпочитают язык большинства. Знают язык на уровне понимания (понимают, о чем говорят другие) – 3,3 %; в лексиконе 6,7 % имеется несколько десятков слов этнического языка. 90 % представителей КМНС Шапшы являются русскоязычными.
Специфика использования этнического языка в Шапше обусловлена рядом факторов, в числе которых одним из важнейших оказывается наличие языковой среды.
В деловой обстановке 100 % респондентов, в том числе и те, кто владеет языками КМНС, используют русский язык. Как отмечалось, в Шапше русский язык является языком большинства, этническими языками здесь владеют единицы, в силу этого в деловой сфере нет необходимости в использовании миноритарных языков.
В быту респонденты, владеющие языками КМНС, также делают выбор в пользу русского языка. Предпочтение его языку своей нации обусловлено двумя причинами: во-первых, в этнически смешанных семьях используется язык, которым владеют все их члены, во-вторых, родители полагают, что для успешной жизни детям важнее знать русский язык, и поэтому не используют этнический язык в семье.
Языковой сдвиг наблюдается и в других населенных пунктах Ханты-Мансийского района с компактным проживанием КМНС. Аналогичное исследование, проведенное в национальном селе Кышик, показало, что этническими языками в нем владеют 36 % респондентов, 53 % знают язык на уровне понимания (понимают язык своей нации, но не говорят на нем; понимают несколько десятков слов этнического языка; понимают содержание разговора на этническом языке).
Оказалось, что респонденты, пассивно знающие язык своего этноса, используют в своей речи некоторые группы хантыйской лексики, в числе которых оказались географические названия [2]. Значит, с утратой владения этническим языком топонимы как обозначения важных в жизни коренного населения реалий продолжают функционировать в речи.
Поскольку в Шапше, как и в Кышике, исследование выявило респондентов, владеющих этническим языком на понятийном уровне, было решено выяснить, использует ли данная категория информантов в своей речи лексику обско-угорского и самодийского происхождения. Наблюдения над речью автохтонных жителей показали, что ее доля в лексиконе опрошенных незначительна и не отличается тематическим разнообразием. Однако обращает на себя внимание регулярность использования в речи респондентов Шапши географических названий хантыйского происхождения.
Результаты наблюдений и анализ анкетных данных относительно функционирования топонимов в речи показали, что 90 % респондентов используют географические названия на русском языке; 3,3 % на мансийском, 6 % не ответили. С целью уточнения сферы использования топонимов респондентам были заданы вопросы: «На каком языке Вы употребляете географические названия в официальной/неофициальной обстановке». В быту 90 % используют топонимы на русском языке; 3,3 % – на мансийском. В деловой коммуникации 86,7 % используют русские названия; 13,3 % затруднились с ответом. Таким образом, абсолютное большинство респондентов во всех видах общения используют географические названия на русском языке. Информант, сообщивший об употреблении топонимов на мансийском языке, в недавнем прошлом переселился в Шапшу из Березовского района ХМАО ‒ Югры – территории с компактным проживанием манси. Данные, полученные от него, не могут быть использованы в работе, поскольку названий мансийского происхождения в топонимической системе Шапши не зарегистрировано.
В беседах с информантами была получена топонимическая информация, позволившая сделать выводы о взаимоотношении хантыйского и русского языков на разных исторических этапах: в период двуязычия, а также в современности.
Ко времени появления русских переселенцев на протоке Неулевой, южными хантами была создана собственная топонимия. Новые обитатели юрт Шапшинских дали большинству географических объектов русские названия. Часть имен хантыйского происхождения, обозначающих наиболее крупные географические объекты данной местности, была воспринята ими. Аборигенные топонимы вошли в русский язык адаптированными на фонетическом и словообразовательном уровнях, поскольку русскоязычные переселенцы стремились сделать их удоб- ными для употребления. Как пишет Т.В. Федотова, иноязычное географическое название всегда воспринимается как знак, который следует приспособить к своим привычным нормам произношения [10].
В период двуязычия, длящийся примерно до начала 1950-х гг., коренное население использовало параллельные географические названия: автохтонные и русские. С переходом коренных этносов на русский язык во всех сферах общения большая часть аборигенных топонимов перестала употребляться.
В настоящее время 90 % употребляемых автохтонными жителями топонимов имеют русское происхождение. Хантыйские географические имена составляют в лексиконе респондентов не более 10 % от общего количества.
Автохтонные названия жители Шапши сохранили у рек: Мордино < хант. морты ‘южный’ [9], Воришка < хант. воры ‘старица, озеро на месте бывшего русла реки’ [9]; проток: Соспас < хант. сос ‘горностай’, пусэл ‘протока’ [9], Подворная < хант. паты ‘дальняя часть чего-либо’ [9], воры ‘старица, озеро на месте бывшего русла реки’ [9]; озер Норник < хант. норэнг эвфем. ‘котел’ [9], болот Воровые < хант. воры ‘старица, озеро на месте бывшего русла реки’ [9] .
При номинации некоторых антропогенных географических объектов русские переселенцы использовали названия смежных географических реалий, носящих хантыйские имена. Так, название дер. Шапша перенесено с названия остяцких юрт Шапшинских < хант. шапша ‘бугор, разделенный водой’.
Протока Шапшинская , очевидно, в дорусский период имела хантыйское имя, но была переименована либо по названию юрт Шапшинских, либо позднее по названию дер. Шапша.
Протока Неулева , по данным исследователя Сибири Г.Ф. Миллера, в XVIII в. имела параллельное хантыйское название Леринг посл [8] < лэренг ‘с корнями’ [9], пусл ‘протока’ [9]. Предположительно гидрообъект находился во владениях остяка по имени Неуль . В Поступной записи 1728 г. в связи с передачей земли в счет долга упоминается ясашный остяк Гаврило Васильев сын Невуль [5]. Судя по всему, в XVIII в. русское и хантыйское названия употреблялись параллельно, со временем автохтонное было утрачено.
Таким образом, сопоставление субъективных данных анкетирования и информации, полученной в результате наблюдений над живой речью информантов, позволило получить целостное представление о состоянии языков титульных этносов ХМАО ‒ Югры в дер. Шапша. Привлечение материалов письменных источников способствовало установлению характера взаимоотношений хантыйского и русского языков в ранний период межэтнического контактирования: с самого начала формирования русского населения на Севере Западной Сибири русский язык начал расширять свое пространство, двояко влияя на автохтонные языки. С одной стороны, он способствовал обогащению их лексического строя, с другой ‒ вкупе с экстра-лингвистическими факторами содействовал сокращению сфер функционирования миноритарных языков и сокращению числа их носителей.
Несмотря на сохранение в речи представителей КМНС этнической лексики, обозначающей актуальные в жизни коренных этносов понятия, приходится констатировать языковой сдвиг с полной утратой автохтонных языков.
Список литературы Языки коренных малочисленных народов Севера в деревне Шапша Ханты-Мансийского района ХМАО - Югры
- Герляк Н.А. Лексика в хантыйском языке: исконная и заимствованная//Вестник Югорского государственного университета. -Ханты-Мансийск, 2010. -Вып. 2 (17). -С. 27-30.
- Исламова Ю.В. Географические названия в речи коренных жителей Ханты-Мансийского района ХМАО -Югры//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -Тамбов: Грамота, 2015. -№ 5, ч. 2. -С. 64-67.
- Каксин А.Д. Хантыйские заимствования из русского языка в области лексики, связанной с бытом и хозяйственной деятельностью (на материале казымского диалекта)//Языки коренных народов Сибири: сб. науч. тр. -Новосибирск, 1999. -Вып. 5. -С. 221-224.
- Крысин Л. П. О причинах лексического заимствования//Русский язык в школе. -М., 1965. -№ 3. -С. 1-15.
- Лопарев Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа: хроника, воспоминания и материалы о его прошлом. -Тюмень: Софт Дизайн, 1997. -264 с.
- Лыскова Н.А. Хантыйско-русские языковые связи//Контактологический энциклопедический словарь-справочник. Вып. 1. Северный регион. -М.: АЗь, 1994. -С. 209-217.
- Мартине А. Распространение языка и структурная лингвистика//Новое в лингвистике. Вып. VI. Языковые контакты . -URL: http://www.classes. ru/grammar/153.new-in-linguistics-6/source/worddocuments/3.htm
- Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах и материалах Г.Ф. Миллера/пер. и подготовка текста, предисл., коммент. А.Х. Элерта. -Екатеринбург: НМПП «Волот», 2006. -416 с.
- Соловар В.Н. Хантыйско-русский словарь /В.Н. Соловар. -Тюмень: ООО «Формат», 2014. -386 с.
- Федотова Т.В. Субстрат в топонимии Восточного Забайкалья//Вестник Томского государственного университета.-2008. -№ 309. -С. 18-23.