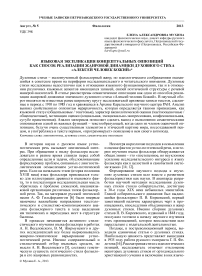Языковая экспликация концептуальных оппозиций как способ реализации жанровой динамики духовного стиха «Алексей человек Божий»
Автор: Мухина Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (134), 2013 года.
Бесплатный доступ
Духовные стихи - малоизученный фольклорный жанр, по идеологическим соображениям оказавшийся в советское время на периферии исследовательского и читательского внимания. Духовные стихи исследованы недостаточно как в отношении языкового функционирования, так и в отношении различных языковых аспектов имеющихся записей, связей поэтической структуры с речевой манерой сказителей. В статье рассмотрены семантические оппозиции как один из способов реализации жанровой динамики эпического духовного стиха «Алексей человек Божий». В научный оборот вводятся не известные ранее широкому кругу исследователей архивные записи текстов, сделанные в период с 1910 по 1983 год и хранящиеся в Архиве Карельского научного центра РАН. Анализ выявил свойственную оппозитам иерархичность, которая определяется такими признаками, как языковой статус (общеязыковые / текстовые), характер аксиологической оценки (частнооценочные / общеоценочные), мотивация оценки (социальная, эмоционально-экспрессивная, конфессиональная, сугубо нравственная). Анализ материала позволяет сделать вывод о выполнении семантическими оппозициями одной из важных функций - текстообразующей, когда один из членов оценочной оппозиции, будучи очень существенным элементом в этической картине мира, воссоздаваемой певцом, и употребляясь в тексте первым, «программирует» появление в нем своего антипода.
Лингвопоэтика, духовные стихи, семантические оппозиции
Короткий адрес: https://sciup.org/14750458
IDR: 14750458 | УДК: 398
Текст научной статьи Языковая экспликация концептуальных оппозиций как способ реализации жанровой динамики духовного стиха «Алексей человек Божий»
В истории науки о русском языке устнопоэтическая речь вызывает неизменный интерес. При обращении к языку фольклора исследователи в разное время ставили перед собой определенные цели и задачи, обусловливающие формулировку проблем, связанных с лингвостилистическим осмыслением устно-поэтической речи. Если на начальном этапе (вторая половина XVIII века) язык фольклора привлекался только для иллюстрации древности языкового факта, то в последующем исследовательская мысль обратилась к проблеме словесной, внешнеязыковой организации различных типов фольклорной речи. Так, на материале русской эпической песни А. Ф. Гильфердингом [6] были впервые намечены важнейшие направления текстологического и стилистико-композиционного анализа фольклорного текста в ходе выделения им типических и переходных мест в структуре былины.
В процессе начавшегося активного стилистического изучения языка фольклора в работах А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского и других исследователей все более вырисовывалось жанрово-тематическое варьирование устнопоэтической речи. Именно содержательный и стилистический отбор языковых средств, по мысли А. Н. Веселовского [5], составил генетическую сущность поэтического стиля фольклора в его жанровых разновидностях.
Несмотря на различие подходов в осмыслении и оценке фактов устно-поэтической речи, в истории изучения языка фольклора обнаруживается общая линия – это «постепенное, но неуклонное усиление исследовательского интереса к языку фольклора как к целостной и самобытной системе языка» [14; 12].
Формирование научного подхода к изучению духовных стихов шло вместе с развитием фольклористики как науки. В авангарде разработки научной методики исследования духовных стихов стояло собирательство, достигшее в 30-е годы XIX века небывалых масштабов. Главой собирательского движения был выдающийся фольклорист П. В. Киреевский, первый заметивший наличие характерных черт в произведениях, впоследствии объединенных в жанр духовных стихов. Именно сборник духовных стихов П. В. Киреевского, изданный в 1848 году, послужил толчком к началу научного изучения этих произведений, которое впоследствии шло параллельно с издательской деятельностью.
Позднее, в постреволюционный период, выходили единичные статьи о духовных стихах. Наибольшую ценность представляет вышедшая в 1935 году работа русского эмигранта Г. П. Федотова [16]. Рассматривая стихи с идеологических позиций, исследователь отмечает отклонение некоторых духовных стихов от ортодоксального христианского учения и включение в них языче- ских элементов, которые аргументирует текстовой близостью стихов.
Исследование духовного стиха возобновилось с конца 60-х – начала 70-х годов XX века. В этот период, наряду с изучением генетических истоков, функционирования и текстологии духовных стихов, закладываются основы и лингвистического исследования фольклора.
Несмотря на возрастающий интерес к духовным стихам (работы В. В. Колесова, З. К. Тарла-нова, С. Е. Никитиной, А. М. Петрова, Е. А. Мухиной и др.), этот жанр устной поэзии исследован явно недостаточно.
Слово, являясь важным инструментом человеческого общения, воздействия, выразителем чувств и эмоций, в фольклоре зависит от отношений и свойств традиции – структур сознания, породивших текст. Смысл слов определяется жанром, местом в тексте, семантическим окружением, это подвижный и вместе с тем единый смысл, который может кратно усиливаться, включаясь в различные стилистические приемы, характерные для устной поэзии.
Контраст является одним из наиболее распространенных и выразительных композиционных принципов в поэтической структуре текста. Будучи по-разному представленным на языковых уровнях, этот принцип выполняет важнейшие содержательно-эстетические функции и определяет построение текста.
Антитеза стала предметом изучения в разных фольклорных жанрах: сказках [4], балладах [9], пословицах [3], [10], хороводных песнях [18], солдатских и рекрутских песнях, былинах [2], [8], духовных стихах [11], [13]. Замечено, что антитеза, служащая созданию художественного единства произведения, выражается не только смысловым противопоставлением понятий, но и использованием лексических, грамматических и синтаксических приемов. Будучи важным стилистическим средством, она выполняет сюжетообразующую, композиционную и характеризующую функции в произведении.
Фольклорная картина мира принципиально строится на различного рода оппозициях, заложенных и в «физической» модели построения макрокосма, и в «психическом» освоении этой действительности. Они реализуются как в условиях микроконтекста, в пределах стиха или параллельных стихов, так и в пределах целого произведения. Главный объект оценки духовного стиха – человеческая душа с ее помыслами и желаниями, поэтому определяющим в произведениях данного жанра является не противопоставление свое - чужое, которое свойственно для фольклора вообще, а антитеза грех - праведность, по-разному реализующаяся в семантических противопоставлениях конкретного текста и его вариантов. Выявление текстовых оппозиций, установление связи композиционных частей с ними – одна из насущных задач при исследовании духовного стиха.
По признаваемой нами концепции С. Е. Никитиной [12], фольклорная картина мира складывается из элементов трех уровней: досим-вольного, слоя символов и наиболее глубинного среза – семиотических оппозиций. Практически любой фрагмент картины мира в духовном стихе ценностно окрашен. Ад - рай , земля - небо, грех - праведность , богатство - бедность и т. д. – все занимает свое место в иерархии ценностей. Ценностный мир духовного стиха во многом противоположен ценностному миру традиционного фольклора. Мир духовного стиха – мир разрушенной нормы, мир, лежащий во грехе. Если в традиционном фольклоре богатство – положительная характеристика героя, то в духовном стихе оно, являясь бессильным перед смертью, развращает душу. Отступление от идеальной нормы в духовном стихе – грех, что и определяет главное противопоставление стиха – грех - праведность .
В эпическом духовном стихе «Алексей человек Божий», возникшем на основе «Жития Алексея человека Божия» [1], повествуется о судьбе Алексея, который, оставив дом отца, где он ни в чем не нуждался, и новобрачную жену, уходит в пустыню, чтобы посвятить свою жизнь аскезе и молитвам. Через много лет пустынник возвращается в мир, домой, и, живя в келье, продолжает свое подвижничество. Спустя некоторое время Алексей умирает неузнанным и, подобно всем святым, творит посмертные чудеса.
Анализ 10 вариантов духовного стиха (4 из них – записи, хранящиеся в Архиве Карельского научного центра РАН) показал, что центральная оппозиция духовного стиха грех - праведность в этом сюжете, исключающем ярко проявляющееся греховное начало противопоставленных Алексею героев, выражена в противоположении земного, плотско-материального мира святому миру , находящемуся за пределами обыденности. Как отмечает А. Забияко, «святое, священное – важнейшая мировоззренческая категория, выделяющая из всего сущего такие явления и состояния, которые в восприятии носителей культуры отмечены особой значимостью, непреходящей ценностью и которые в силу этого требуют к себе благоговейного отношения» [7].
В данном сюжете противопоставление земного и святого – это противопоставление окружения Алексея и самого главного героя как воплощения святости. Не случайно Алексей называется божьим человеком, Алексеем-светом. Слово свет – «святой» принадлежит к центральным знакам – символам христианской эпохи, для него можно реконструировать значения «увеличиваться», «набухать». Как отмечает В. Н. Топоров, речь идет о том «благодатном возрастании – процветании некоей животворящей субстанции, которое вело к созреванию плода как завершению всего предыдущего развития и прорыву к новому, более высокому состоянию, к вечному рождению, к максимальному плодородию, прибытку. Эта “святость” как образ предельного изобилия скорее всего и была тем субстратом, на котором сформировалось понятие “духовной” святости» [15; 480].
Центральная оппозиция духовного стиха представлена рядом различных по характеру субоппозиций. В первую очередь выделяются пространственные оппозиты, являющиеся жан-рово обусловленными. Противопоставленность локусов мирян и локусов святого – отображение стремления Алексея отгородиться от плотско-материального мира и посвятить себя служению Богу. Локусы мирян – место рождения Алексея, место проживания его близких – могут иметь конкретные географические ориентиры: Рим , Римское царство , Иерусалим (при цитировании сохраняется орфография и пунктуация источника): «Во славном во граде Рыме …»1; «Ва славном ва горади ва Ирусалими …»2
То же наблюдаем при номинации святых локусов: Индейское царство , Ехвес , Рим-град , земли турецкие , Одес-град , муромская пустыня : «Пошел он (Алексей. – Е. М. ) ко Индейскому славному царству …»3
Противопоставление мирского и святого пространства поддерживается общеязыковыми оппозитами палаты ( спальня, почивальня ) – келья :
Построил убогому келью
По-зá своей каменной палатой …4
Святое пространство – место для аскезы, место неустанной борьбы души и тела, духа и плоти. Г. П. Федотов, говоря о своеобразии русского аскетизма, который отличался умеренностью и сводился к посту, физическому труду и бодрствованию, сравнивал борьбу с плотью с длительной осадой [17].
Противопоставление мирское – святое также поддерживается в тексте оппозитами царь – патриарх (владыко) и выражается описательно, через сопоставление действий героев при обращении к мощам святого:
Царю рукописьмо не далося. <…> Далось рукописьмо патриарху5.
Значительная роль в контрастной организации текста отводится признаковым оппозитам: цветное платье – нищенская одежда , риза власяная , платье волосенное , светлая одежда – черная риза . Эстетическая оценка является отражением этической нормы: цветное платье – грех, черная риза – праведность:
…Снимал с себя светлую одежду ,
Надевал на себя черную ризу …6
Данная оппозиция подкреплена употреблением глаголов-антонимов: возьми – дай, скиды- вай – одевай, снимал – надевал. Параллельное расположение элементов (что вообще свойственно анализируемым текстам) позволяет наложить друг на друга два образа, чтобы наделить их объемностью и глубиной. Повторение конструкции позволяет связать воедино синтагмы, которые поначалу представляются лишь свободно следующими друг за другом.
В духовном стихе «Алексей человек Божий» находит свое отражение и центральная пространственная оппозиция земля – небо . Небо – место обитания высших сил, определяющих судьбу человека. Это локус, характеризующийся положительной оценкой, это то вечное, куда попадают человеческие души. Земля же, наоборот, – место, созданное Богом для жизни, которое имеет скорее отрицательную общую оценку, так как в большей мере сопрягается с материальным, телесным, а не с духовным. Данная оппозиция отражена в анализируемых текстах опосредованно, через субъектно-речевую организацию духовных стихов, отображающую возможность героев апеллировать к высшим силам, которые, в свою очередь, обращаются к обитателям земли:
Он (Ефимьян. – Е. М. ) и так-то молился со слезами,
Умолял он у господа бога…7;
Богородица с небес прогласила…8
Как отмечает С. Е. Никитина [13], кроме универсальной шкалы хорошо – плохо , реализующейся во множестве разновидностей, не менее универсальной является шкала важно (значимо) – не важно (не значимо) , на которой для мира духовного стиха основополагающим является противопоставление вечного и временного . Противопоставление житья часового житью вековому пронизывает духовный стих «Алексей человек Божий» и, как правило, выражается опосредованно, через описание тягостного Алексею венчания, поведения героя на пиру, где он в противовес другим «хлеба-соли не вкушает, медвяного питья да не испивает»9 . Бесконечность нежелательного Алексею венчания может быть усилена глаголами в форме прошедшего времени несовершенного вида:
Во Божью церковь их проводили, Под златыми венцами стояли , Златыми перстнями обручались , Един чуден крест целовали , Весь Божий закон принимая10.
В одном из вариантов Богородица, обращаясь к Алексею, прямо говорит о тленности, временности земного бытия: « Не смекай ты житья часового, Смекай ты житье вековое… »11.
Итак, семантическая оппозиция может быть охарактеризована как универсальная семиотическая категория, являющаяся специфической для жанра. Этическое пространство духовно- го стиха отличается от пространства традиционного фольклора: в центре него – душа человека, поэтому и традиционная фольклорная оппозиция свое – чужое в духовном стихе выступает как этическая антитеза грех – праведность, реализующаяся в текстах в ряде субоппозиций земля – небо, ад – рай, палаты – келья и др.
Описание в духовном стихе земной (телесной) жизни и сакрального (жизни души) инобытия ведет к возникновению противопоставления значимое – не значимое , где скоротечность жизни земной антонимична вечной жизни души человека после его смерти.
Для системы семантических оппозиций в духовном стихе «Алексей человек Божий» характерна иерархичность, определяющаяся несколькими признаками:
-
1) языковой статус: общеязыковые ( небо – земля , палаты – келья ) и текстовые ( Римское царство – Индейское царство , Рим – земли турецкие ) оппозиты;
-
2) характер их аксиологической оценки: частнооценочные ( цветное платье / волосенное платье ) и общеоценочные ( палаты – келья ) оп-позиты;
-
3) мотивация оценки: социальная ( царь – патриарх ).
Кроме отображенной в проанализированных текстах социальной мотивации оценки, в духовных стихах находят отражение эмоциональноэкспрессивная, конфессиональная, сугубо нравственная оценки. Антитеза духовного стиха выражается не только лексической антонимией, но и грамматическими средствами, усиливающими противопоставление, выраженное содержательно. Семантические оппозиты выполняют как оценочную, воспитательную и просветительскую функции, так и текстообразующую: один из членов оценочной оппозиции, будучи очень существенным элементом в этической картине мира, воссоздаваемой певцом, и употребляясь в тексте первым, «программирует» появление в нем своего антипода.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
-
1 Стихи духовные. М.: Сов. Россия, 1991. С. 134.
-
2 Собрание народных песен П. В. Киреевского. Записи П. И. Якушкина: В 2 т. Т. 2. Л.: Наука, 1986. С. 21.
-
3 Стихи духовные. М.: Сов. Россия, 1991. С. 145.
-
4 Тихонов П. Стих об Алексее божьем человеке. Брянск, 1894. С. 5.
-
5 Стихи духовные. М.: Сов. Россия, 1991. С. 134.
-
6 Архив Карельского научного центра РАН. Кол. № 28, ед. хр. № 125. Зап. от А. И. Прокопьевой; 9 / VI–1935 г. в с. Сухое Беломорского р-на.
-
7 Собрание народных песен П. В. Киреевского. Записи П. И. Якушкина: В 2 т. Т. 1. Л.: Наука, 1983. С. 138.
-
8 Истомин Ф. М., Дютш Г. О. Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 г. СПб.: Издано Императорским Русским географическим обществом, 1894. С. 7.
-
9 Стихи духовные. М.: Сов. Россия, 1991. С. 143.
-
10 Стихи духовные. Словеса золотые. СПб., 1912. С. 87.
-
11 Истомин Ф. М., Дютш Г. О. Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 г. СПб.: Издано Императорским Русским географическим обществом, 1894. С. 8.
LANGUAGE EXPLICATION OF CONCEPTUAL OPPOSITIONS AS REALIZATION WAY OF GENRE DYNAMICS IN SPIRITUAL VERSE “ALEXEY IS A MAN OF GOD”
Список литературы Языковая экспликация концептуальных оппозиций как способ реализации жанровой динамики духовного стиха «Алексей человек Божий»
- Адрианова В. П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917. 516 с.
- Аншакова С. Ю. Языковая картина мира в системе антонимических оппозиций русских былинных текстов: Автореф. дис. канд. филол. наук. Тамбов, 2004. 26 с.
- Бочина Т. Г. Стилистика контраста: Очерки по языку русских пословиц. Казань, 2002. 196 с.
- Ведерникова Н. М. Антитеза в волшебных сказках//Фольклор как искусство слова. Вып. 3. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 66-78.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л.: Гослитиздат, 1940. 648 с.
- Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. СПб.: Изд-во Императорской Академии Наук, 1873. 732 с.
- Забияко А. Антиномии русского сознания: святое и падшее//Литературная учеба. 1998. № 3. С. 174-193.
- Климас И. С. Своеобразие лексических категорий в языке фольклора. Курск, 2004. 147 с.
- Кулагина А. В. Антитеза в балладах//Фольклор как искусство слова. Вып. 3. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 79-96.
- Морозова Л. А. Антитеза в пословицах//Фольклор как искусство слова. Вып. 3. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 96-107.
- Мухина Е. А. Семантические оппозиции в эпическом духовном стихе «Два Лазаря»//Язык как основа этнокультурной идентичности: Материалы науч.-практ. семинара. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 40-47.
- Никитина С. Е. Семантические категории в словаре языка фольклора//Словарные категории: Сб. ст. М.: Наука, 1988. С. 87-91.
- Никитина С. Е. Устная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 188 с.
- Тарланов З. К. Язык русского фольклора как предмет лингвистического изучения//Язык жанров русского фольклора: Межвуз. науч. сб. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1977. С. 3-32.
- Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 2 т. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М.: Гнозис: Языки русской культуры, 1995. 874 с.
- Федотов Г. П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М.: Прогресс: Гнозис, 1991. 192 с.
- Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10: Русская религиозность. Ч. 1. Христианство Киевской Руси. X-XIII вв. М.: Мартис, 2001. 382 с.
- Яцунок Е. И. Антитеза в хороводных песнях//Фольклор как искусство слова. Вып. 3. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 157-164.