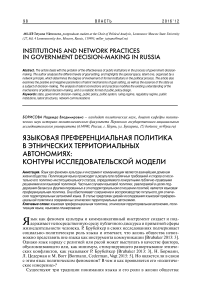Языковая преференциальная политика в этнических территориальных автономиях: контуры исследовательской модели
Автор: Борисова Надежда Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
Язык, как феномен культуры и инструмент коммуникации, является важнейшим доменом жизни общества. Политизация языка происходит в результате публичных требований и споров относительно его политико-институционального статуса, определяемого конкретными публично-правовыми решениями или языковой политикой. Частным случаем языковой политики, реализуемой в целях поддержания баланса в фрагментированных в этно-территориальном отношении политий, является языковая преференциальная политика. Она обеспечивает сохранение и воспроизводство титульного для этнических территориальных автономий языка. В статье предложен дизайн исследования языковой преференциальной политики в современных этнических территориальных автономиях.
Языковая преференциальная политика, этническая территориальная автономия, политизация языка, языковое планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170168276
IDR: 170168276
Текст научной статьи Языковая преференциальная политика в этнических территориальных автономиях: контуры исследовательской модели
Я зык как феномен культуры и коммуникативный инструмент создает и поддерживает непосредственную среду публичного дискурса и приватной сферы жизнедеятельности человека. Р. Брубейкер в своих исследованиях подчеркивает социально-политическую роль языка и отмечает, что жизнь общества невозможно представить вне языка как инструмента коммуникации [Brubaker 2013: 3]. Однако язык наряду с религией или расой может выступать в качестве фактора, обусловливающего или, как минимум, стимулирующего развертывание этнических конфликтов, как указывают Р. Брубейкер [Brubaker 2013: 3], Н. Борманн, Л. Цедерман и М. Вогт [Bormann, Cederman, Vogt 2015: 5]. Но является ли в связи с этим язык политическим феноменом? В чем и как проявляется его «политическое измерение»?
Существуют три традиции понимания языка и его роли в жизни общества:
1) язык как инструмент коммуникации, 2) как инструмент воспроизводства и ретрансляции культуры [Patten 2001] и 3) как ключевой элемент идентификации [Carla 2007: 287]. Первые две традиции характерны для социолингвистических исследований, рассматривающих язык как постоянно изменяющуюся систему, которая выполняет социальные функции выражения, обозначения, познания, трансляции и коммуникации [Кульжанова].
Третья традиция в понимании языка связана не только с социолингвистикой, но широко распространена в политической лингвистике, политической антропологии и социологии, для которых главная функция языка – идентификационная. Здесь наиболее важными оказывается соперничество трех теоретикометодологических подходов в изучении этничности и национализма: примор-диализма, ситуационализма и конструктивизма. Примордиалисты, для которых этничность обусловлена природным (примордиальным) чувством духовной близости людей, а не социальными контактами [Винер 1998: 5], рассматривают язык как идентификатор этнической принадлежности его носителей и маркер ее границ. Они фактически настаивают на том, что язык предписан индивиду его происхождением и родственными связями. Для ситуационализма, основоположником которого является Ф. Барт, этническая идентичность предписывается конкретной жизненной ситуацией [Шажинбат 2015: 206]. Однако наиболее острой является дискуссия между примордиалистами и конструктивистами. Последние, критикуя примордиалистов, считают, что этничность создается (конструируется), будучи своего рода культурным артефактом [Андерсон 2001: 29], а язык является инструментом и одновременно результатом рационального выбора индивидов [Германова 2009: 32]. Иными словами, конструктивизм настаивает на том, что язык не является предзаданным элементом развития идентичности индивидов. Идентичность, как пишет А. Карла, «формируется через практики и системы взаимодействия индивида и государства, личности и власти» [Carla 2007: 287], где язык играет сугубо инструментальную роль коммуникатора.
Вместе с тем если следовать логике конструктивизма, то важны не только коммуникативное измерение функции языка, но его интегративно-символическая роль в формировании сообщества, будь то национального, политического [Wright 2015; Liu 2015] или этнического. В этом смысле язык становится частью политического, не будучи по природе своей политическим феноменом. Язык в его инструментальной ипостаси может быть одновременно способом [Кульжанова] и предметом политических споров [Kubota 2016]. В последнем случае речь идет о языке как об объекте специальной языковой политики. Здесь важным оказывается не сам язык как феномен культуры, а его политико-институциональный статус, являющийся результатом принятия и реализации конкретных публичноправовых решений. Языковая политика является системой мер и действий, которые направлены на развитие языка, стимулирование или сдерживание контактов и конкуренции между языками в сообществе. Доминирующим субъектом языковой политики выступает государство. При этом роль агентов языковой политики выполняют не только институты и органы государственной власти, но и иные субъекты публичной политики (политические партии, неправительственные организации, СМИ), а также институты образования и культуры.
Языковая политика является предметом политологических исследований, как правило, в контексте изучения проблем национального строительства [Скачкова 2015; Вахтин, Головко 2004; Асиновский; Laletina 2013]. Вместе с тем не менее интересной она является в контексте обсуждения проблемы поиска баланса между достижением территориальной целостности государства и регионалистскими требованиями территориальной автономии для этнолингвистических меньшинств, входящих в его состав. В этом случае языковая политика приоб- ретает характер преференциальной и становится одной из составляющих института этнической территориальной автономии (ЭТА). Языковая преференциальная политика обеспечивает сохранение и воспроизводство титульного для ЭТА языка, а также (в некоторых случаях) миноритарных языков, носителями которых являются нетитульные этнические группы внутри ЭТА.
В настоящее время насчитывается более 100 этнических территориальных автономий в 30 странах мира. Однако далеко не всегда языковая преференциальная политика институционализирована, что обусловлено в т.ч. и тем, что не язык, а, например, религия и традиции являются доминирующим основанием для выделения этнической группы, и, как следствие, преференции для ЭТА касаются не вопросов защиты языка, а иных социальных доменов. В этом отношении показательными являются случаи Саравака и Сабаха в Малайзии, а также Ачеха в Индонезии, преференции для которых касаются преимущественно религиозного исповедания. В ходе реализации проекта «Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: региональные автономии, целостность государства и права этнических меньшинств” (грант РНФ № 15-18-00034) была создана база данных, которая содержит разнообразную информацию по всем этническим территориальным автономиям. В базу включены и закодированы в т.ч. и данные относительно реализации языковой преференциальной политики. Данные базы показывают, что эта политика если и является широко распространенной, но характер и степень ее институционализации, а также конкретные модели ее реализации различны. Собранные данные позволяют предположить, что такому разнообразию способствует конфигурация набора таких факторов, как 1) этнолингвистическая структура ЭТА, проявляющаяся в ее этнолингвистической гетерогенности/гомогенности, а также в соразмерности образующих ЭТА этнических групп (меньшинств); 2) наличие kin-state , его географическая близость и характер, масштаб его политики в отношении kin -групп, образующих ЭТА; 3) политико-институциональное устройство государства и характер его административно-территориального деления; 4) уровень экономического развития ЭТА; 5) исторические условия появления (институционализации) ЭТА. Кроме того, следует согласиться с К. Уильямсом в том, что на объем, содержание и период осуществления языковой преференциальной политики влияние оказывают сложившиеся традиционно или ситуационно «отношения между политиками, чиновниками и группами интересов», а также «роль законодательных реформ, судебной практики в контексте защиты или модификации языковых стратегий» [Williams 2013: 102]. Иными словами, речь идет о том, что изучение языковой преференциальной политики требует выявления и характеристики ее субъектов, агентов, используемого ими набора ресурсов и предпочитаемой/ выбираемой стратегии как продвижения политики, так и взаимодействия с другими агентами этой политики.
Воспроизводство этнолингвистического сообщества требует такой языковой преференциальной политики, которая не только обеспечивает реализацию права изучения языка меньшинства и говорения на нем в частной жизни, но и 1) организует комплексное школьное образование на языке меньшинства, который, таким образом, является средством обучения [Brubaker 2013: 8], и 2) вводит язык как средство коммуникации в публично-правой сфере и практиках администрирования.
Помимо понятия «языковая политика» в исследовательской литературе используется понятие «языковое планирование», под которым понимают реализацию языковой политики [Вахтин, Головко 2004]. Различают два вида языкового планирования: планирование относительно корпуса языка (corpus language planning) и планирование относительно статуса языка (status language planning) [Gadelii 1999: 5]. Решения относительно норм и правил используемого сообще- ством языка составляют планирование относительно корпуса языка. Эта группа решений чаще всего связана с решениями относительно грамматики и лексики языка, которые не столь часто имеют сколько-нибудь политическое значение. Вместе с тем именно к таким решениям следует относить реформы языка, включающие, например, смену алфавита или разрешение параллельного использования в письменной речи двух и более алфавитов. Показательными в этом плане оказываются примеры неудавшихся попыток латинизации алфавита в Чечне и Татарстане в 1990-х гг. в период децентрализации и максимального ослабления федерального центра в России. Эти случаи, полагаю, следует рассматривать не только как функциональное измерение языковой преференциальной политики, но как символическое воплощение требований регионализма и сецессии, безусловно, сопряженные с разрешением проблемы сохранения территориальной целостности государства.
Планирование относительно статуса языка включает решения относительно политико-правового положения языка, а также решения относительно организации системы его преподавания и изучения. Показательным является пример Боснии и Герцеговины, в энтитетах которой Дейтонская конституция 1995 г. обусловила институционализацию территориально и этнолингвистически сегрегированной системы школьного образования. Решения в отношении языка, подобные реализованным в БиГ, являются политически релевантными, поскольку составляют одновременно содержание, предмет языковой политики, а также имеют безусловно политические последствия с точки зрения функционирования политии.
Представляется, что конкретный вариант реализации языковой преференциальной политики создает, вероятно, различные системы институциональных соглашений относительно использования языка в сообществе и определяемых ими образцов языкового поведения и взаимоотношений, что, в свою очередь, влияет на институциональную силу и политический вес этнической территориальной автономии.
Исследование выполнено в Пермском государственном национальном исследовательском университете за счет гранта Российского научного фонда. Проект № 15-18-00034 «Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: региональные автономии, целостность государства и права этнических меньшинств» (рук. П.В. Панов).
Список литературы Языковая преференциальная политика в этнических территориальных автономиях: контуры исследовательской модели
- Андерсон Б. 2001. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле. 288 с
- Асиновский А. Государство и их языки (опыт России и европейских стран в области языковой политики и языкового строительства). 119 с. Доступ: http://rus-gos.spbu.ru/public/files/articles/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_538c5ed64ed79.pdf
- Вахтин Н., Головко Е. 2004. Социолингвистика и социология языка: учебное пособие. СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Изд-во Европейского университета в СПб. 336 с
- Винер Б. 1998. Этничность: в поисках парадигмы изучения. -Этнографическое обозрение. № 4. С. 3-26
- Германова Н. 2009. Искусственные языки воображаемых сообществ: проблема национальных языков в западной лингвистике. -Вестник МГЛУ. № 557. С. 24-41
- Кульжанова Г. Язык политики как социолингвистический феномен. Доступ: http://policy03.narod.ru/29.doc (проверено 05.11.2016)
- Скачкова И. 2015. Языковая политика и языковое планирование: определение понятий. -Политическая лингвистика. № 51(1). С. 126-131
- Шажинбат А. 2015. Этнос как философско-антропологическая проблема: дис.... д.филос.н. М
- Bormann N.-C., Cederman L.-E., Vogt M. 2015. Language, Religion and Civil War. -Journal of Conflict Resolution. August. P. 1-28
- Brubaker R. 2013. Language, Religion and the Politics. -Nations and Nationalism. № 19(1). P. 1-20
- Carla A. 2007. Living Apart in the Same Room: Analysis of the Management of Linguistic Diversity in Bolzano. -Ethnopolitics. № 6(2). P. 285-313
- Gadelii K.E. 1999. Language planning: theory and practice. Evaluation of language planning cases worldwide. UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118456eo.pdf (accessed 29.08.2016)
- Kubota Y. 2016. State traditions and Language Regimes. -Current Issues in Language Planning. June. P. 1-5
- Laletina A.O. 2013. Language Status Policy in Global World (based on the language policy of the USA and Russia). -Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Philology Series. № 2. P. 320-326
- Liu A. 2015. Standardizing Diversity: the Political Economy of Language Regimes. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 256 p
- Patten A. 2001. Political Theory and Language Policy. -Political Theory. № 29(5). P. 691-715
- Williams C. 2013. Perfidious Hope: The Legislative Turn. -Regional and Federal Studies. № 23(1). P. 101-122
- Wright S. 2015. What is language? A response to Philippe van Parijs. -Critical Review of International Social and Political Philosophy. № 18(2). P. 113-130