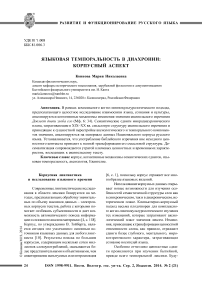Языковая темпоральность в диахронии: корпусный аспект
Автор: Коннова Мария Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (21), 2014 года.
Бесплатный доступ
В рамках комплексного когно-лингвокультурологического подхода, предполагающего целостное исследование взаимосвязи языка, сознания и культуры, анализируются когнитивные механизмы изменения значения евангельского изречения Довлеет дневи злоба его (Мф. 6: 34). Семантические сдвиги микродиахронического плана, затрагивающие в XIX-XX вв. смысловую структуру евангельского изречения и приводящие к сущностной перестройке аксиологического и темпорального компонентов значения, анализируются на материале данных Национального корпуса русского языка. Устанавливается, что употребление библейского изречения вне исходного ценностного контекста приводит к полной трансформации его смысловой структуры. Десемантизация сопровождается утратой ключевых ценностных и временнымх характеристик, восходящих к евангельскому тексту.
Корпус, когнитивные механизмы семантических сдвигов, языковая темпоральность, аксиология, евангелие
Короткий адрес: https://sciup.org/14969766
IDR: 14969766 | УДК: 811:008 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.2.3
Текст научной статьи Языковая темпоральность в диахронии: корпусный аспект
Корпусная лингвистика и исследование языкового времени
Современные лингвистические исследования в области лексики базируются на методах, предполагающих обработку значительных по объему массивов данных – электронных корпусов текстов, работа с которыми помогает «избежать субъективности и дает возможность автоматического поиска информации и сплошного анализа материала» [4, c. 118]. Корпус, по утверждению В. Тойберта, является сегодня «по умолчанию» основным источником языковых данных для любого лингвиста [10]. Результаты поиска по большим корпусам, содержащим несколько сотен миллионов словоупотреблений, оказываются более представительными и объективными, чем анкетирование испытуемых или интроспекция
[6, c. 1], поскольку корпус отражает все многообразие языковых явлений.
Использование корпусных данных открывает новые возможности для изучения особенностей семантической структуры слов как в синхроническом, так и в диахроническом, историческом плане. Компьютерно-корпусный подход весьма плодотворен для комплексного когно-лингвокультурологического изучения тех изменений, которые затрагивают аксиологический пласт значения лексем. Изменения, приводящие к трансформации ценностной отнесенности слова, как правило, отражают сдвиги более глубокого, ментального, мировоззренческого характера, затрагивающие сознание носителей языка.
Особенно отчетливо ценностные сдвиги проявляются при изучении бытийной, прежде всего темпоральной лексики. Буду- чи сущностной характеристикой бытия и принадлежностью тех элементарных концептов, которые являются для человека врожденными и интуитивно ясными, время задает исходные координаты, на основе которых строится картина мира.
Концептосфера времени современного человека обладает большой прагматической значимостью, она социально нагружена и неоднородна. В нее входят представления научного и обыденного происхождения, имеющие физическую и духовную природу, ословленные и акциональные. В совокупности они образуют гештальт, который нельзя свести к сумме отдельных представлений. В нем синтезируется материальный (внешний) и идеальный (внутренний) опыт человека [7, c. 78]. Представления человека о времени порождают свою аксиологию, непосредственно связанную с особенностями национальной и индивидуальной картин мира.
Комплексное изучение аксиологии языкового времени, представляющее собой одну из актуальных задач современной когнитивной науки [там же], становится возможным только с привлечением широкого массива корпусных данных, в том числе и исторических, позволяющих создать системное описание темпоральной лексики в диахронии. Корпусный анализ дает возможность уяснить сущность тех когнитивных процессов, которые лежат в основе формирования и изменения семантики темпоральных категорий и позволяют судить о трансформациях мировоззренческого плана, затрагивающих аксиологическую картину мира носителей языка.
Целью настоящей статьи является анализ когнитивных механизмов изменения значения лексем временнуй семантики на примере евангельского изречения Довлеет дне-ви злоба его (Мф. 6: 34). В его смысловой структуре когнитивная (темпоральная) составляющая теснейшим образом сопряжена с ценностным, аксиологическим компонентом и индуцируемыми им эмоциональным и оценочным со-значениями. Семантические сдвиги микродиахронического плана, затрагивающие смысловую структуру евангельского изречения, анализируются на материале данных Национального корпуса русского языка (хронологический период – XIX–XX вв.).
Евангельский микротекст: корпусный аспект
Утверждение Довлеет дневи злоба его (Мф. 6: 34) является в словесной ткани Нагорной проповеди (V–VII главы Евангелия от Матфея) смысловым завершением предыдущих стихов: ц.-сл. Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам. Не пецытеся убо на утрей, утрений бо собою печется (Мф. 6: 33–34). Существительное злоба выступает в нем аналогом многозначной греческой лексемы какia , указывающей на различные проявления зла как отрицательной, противоестественной силы («зло; порок; состояние вражды, озлобленности; грех; несчастье» (СлРЯ, с. 16). Метонимически именуя тяготы и невзгоды жизни, способные «озлобить и сокрушить» [8, c. 187], слово злоба подчеркивает противо-природный, в «не-бытие» устремленный характер чрезмерного беспокойства о потребностях телесных, житейских. В едином микроконтексте с синкретичным наречием времени и порядка прежде и сказуемым семантики меры довлеет оно намечает ценностные ориентиры традиционной аксиологической шкалы, структурирующей категорию времени в русской языковой картине мира. Горизонтальный вектор повседневности оказывается подчинен вертикальному вектору, именем которого выступает лексема-символ Царствие Небесное .
Общее количество отмеченных в Корпусе употреблений рассматриваемых изречений в виде цельной цитаты невелико (около 50 фиксаций). Следует, однако, отметить устойчивый характер этих употреблений в диахронии – евангельское изречение встречается, с большей или меньшей регулярностью, на протяжении всего исследуемого периода. Первый пример его употребления зафиксирован в тексте религиозного дискурса, а именно Катехизисе митрополита Московского Филарета (Дроздова, † 1867):
-
(1) Повелевается просить насущного хлеба только днесь, то есть на нынешний день, для того, чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно, а надеялись в этом на Бога. Не пецытеся убо на утрей, утрений бо собою печется: довлеет дневи злоба его . Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуе-
те сих всех (митрополит Филарет (Дроздов). Пространный христианский Катихизис Православной кафолической восточной церкви. 1823–1824).
Анализируемое евангельское изречение помещено здесь в широкий контекст Священного Писания. Предваряя стих Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех (Мф. 6: 32), оно раскрывает во всей полноте сущность христианской надежды, мысль о которой эксплицируется придаточным предложением цели ( чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно, а надеялись в этом на Бога ).
В русскоязычных текстах XIX в. цельное церковнославянское изречение – с сохранением исходной формы дательного падежа дневи или с заменой на современную форму дню – встречается преимущественно в публицистике, в художественной прозе, диаристике:
-
(2) Завтра – новый поворот колеса, и я опять смят, затерт. Но – всякому дню довлеет злоба его , и потому отложим попечения до завтра, а сегодня – смело, во всеоружии вперед. Влияние, какое мне в данный момент приписывают на дела министерства, налагает на меня новый долг и, как бы оно мимолетно ни было, из него надо извлечь всю возможную пользу для нашего просвещения и для подвизающихся на благо ему (Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. 1826–1855).
Смысл, вкладываемый в анализируемое новозаветное высказывание, зависит, прежде всего, от типа дискурса, от ценностных установок автора, и глубина прочтения евангельских слов значительно варьируется. Так, в беллетристике и научно-популярной публицистике они воспринимаются, преимущественно, как простой призыв не беспокоиться о будущем (пример 3), тогда как в в философской прозе они нередко становятся основой для сложных ценностных умозаключений о народной ментальности, о сущности времени и цели бытия (пример 4):
-
(3) Их жизнь текла весело, шумно и привольно; без тяжелых дум и душевных потрясений, без гнетущей мысли о завтрашнем дне и изнуряющего труда из-за куска насущного хлеба; держались они
мудрого правила – «довлеет дневи злоба его» , и заглядывать вперед не любили (Соловьев-Андреевич Е. А. Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность. 1893);
-
(4) Чем более конкретна нравственная деятельность человека, чем больше она считается с конкретными нуждами живых людей и сосредоточена на сегодняшнем дне,... тем ближе человек к подчинению своей внешней деятельности духовной задаче своей жизни. Завет не заботиться о завтрашнем дне, ибо «довлеет дневи злоба его» , есть не только завет не перегружать себя чрезмерными земными заботами, но вместе с тем требование ограничить себя заботами о реальной жизни, а не о предметах мечтаний и отвлеченной мысли (Франк С. Л. Смысл жизни. 1925).
Наряду с традиционной церковнославянской формой, среди примеров Корпуса встречается и собственно русский вариант евангельского изречения, вошедший в литературный язык в первой четверти XIX в. с появлением Синодального перевода Нового Завета:
-
(5) Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [ каждого ] дня своей заботы (Евангелие от Матфея: синодальный перевод. 1816–1862).
Русский вариант, почти в пять раз уступающий по частотности церковнославянскому, допускает большую свободу синтаксического и словесного оформления, ср.:
-
(6) ...я был в полном смысле слова поденщиком, который... проводил все время в труде, не спрашивая никогда, что я сегодня буду делать, а только как я успею исполнить все, что нужно, потому что следующий день даст новые заботы (Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Части 5–7. 1933);
-
(7) Новому дню хватает новых забот (Бакланов Г. Я. Жизнь, подаренная дважды. 1999).
При этом смысловая связь между церковнославянским и русским вариантами евангельских слов продолжает осознаваться, о чем свидетельствуют случаи их одновременного употребления, как, например, в стихотворении Б.Л. Пастернака «Бальзак» (1927 год):
-
(8) Париж в златых тельцах, в дельцах <... > // Беспечно мчатся тильбюри.
// Своя довлеет злоба дневи . // До завтрашней ли им зари? // Разгневанно цветут деревья. <...> // Когда, когда ж, утерши пот // И сушь кофейную отвеяв, // Он оградится от забот // Шестой главою от Матфея?
В пастернаковском стихотворении слова Своя довлеет злоба дневи выражают, на первый взгляд иное, не свойственное евангельскому смыслу содержание, – мысль о бездумной сосредоточенности только на настоящем моменте ( До завтрашней ли им зари ?). Однако в контексте двух других аллюзий на Священное Писание – в начальной строфе (Париж в златых тельцах ) и в финале стихотворения ( Когда ж <...> Он оградится от забот / Шестой главою от Матфея ?) – они становятся «тематическим ключом» (термин Р. Пиккио [5, с. 36]) к пониманию авторского замысла. Точный контекст употребления анализируемого изречения в Новом Завете – шестая глава от Матфея – «восстанавливается» в стихотворении неслучайно. Евангельский «тематический ключ» отсылает к системе аксиологических координат Священного Писания ( Ищите же прежде Царствия Божия и правды его [Мф. 6: 33]), указывая на истинное предназначение художественного творчества.
Согласно данным НКРЯ, начиная с 1930-х гг. наблюдается значительное снижение регулярности употребления цельного евангельского микротекста как в церковнославянском, так и в русском вариантах, что обусловлено насильственным вытеснением из сознания носителей русского языка памяти о слове и ценностных символах Священного Писания.
Фразеологизм злоба дня как результат десемантизации евангельского микротекста
Для современной культуры характерной является «погруженность человека во время (социальное, индивидуальное, часовое) и отсутствие идеи вечности, которая… выступала основой традиционных культур» [1, c. 16]. Переломным периодом в сознании русской интеллигенции становится середина XIX века. «Это было время большого общественного и соци- ально-политического возбуждения... время очень решительных сдвигов и глубочайших переслаиваний во всем составе и сложении русского общества, всего русского народа... Но, прежде всего, это был... некий душевный сдвиг....Все очнулись, все стали думать и всеми овладело критическое настроение» [9, c. 285]. Это «критическое настроение» проявляется во всеобщем отрицании – в отказе от «устаревших» традиций, в разрушении «обветшавшего» быта, в забвении прошлого; более того – в отрицании и отвержении истории [там же, c. 286]. Нарастает равнодушие к культуре и действительности, размывается само понятие ценности. Усиливающаяся «демократизация» и «вульгаризация», разрушение традиционной аксиологической картины мира в среде городского, а впоследствии и сельского населения приводит к глубокому моральному кризису [2, c. 154]. Психологический и мировоззренческий сдвиг, приведший к отрыву от традиции, выражается, в частности, в десакрализации Священных текстов, в более «свободном» обращении с евангельским словом.
Одним из проявлений этого глубинного психологического процесса становится появление в середине XIX в. десемантизированного устойчивого словосочетания злоба дня . Возникшее на основе церковнославянского изречения Довлеет дневи злоба его , но лишенное связи с аксиологическим контекстом Евангелия, оно приобретает совершенно иной смысл – то, «что особенно интересно, важно» (ТСРЯ, c. 225).
В Корпусе первые употребления сочетания злоба дня вне исходного евангельского микротекста встречаются в цитатах из «критической» беллетристики конца 50 – начала 60-х гг. XIX в., и наиболее последовательно – у М.Е. Салтыкова-Щедрина:
-
(9) Еще не умер человек, а глуповцы уж сотнями налетели на него <...> готовы кусаться, топтать и клеветать! Видите ли вы радость злобы дня при этом неслыханно безнравственном зрелище? (Салтыков-Щедрин. М. Е. Каплуны. 1857–1865);
-
(10) ...оказывались робкими и несостоятельными, чуть только дело доходило до соприкосновения с действительностию. Злоба дня заставала их безоружными (Салтыков-Щедрин М. Е. Тихое пристанище. 1857– 1865);
-
(11) Не успел еще скрыться поезд за горой, как поезжане, покончив с проводами, уже предаются злобе дня и заводят разговоры о предстоящей «встрече» (Салтыков-Щедрин М. Е. Помпадуры и помпадурши. 1863–1874).
В приведенных примерах автор каждый раз вкладывает в словосочетание злоба дня иной смысл, однако ни в одном из них оно не употреблено в исходном евангельском значении. Так, в примере (9) слова злоба дня указывают, очевидно, не на житейские заботы и тяготы, а на пороки высмеиваемого писателем общества. Ближайшее лексическое окружение словосочетания ( налетать , кусаться , топтать , клеветать , безнравственное зрелище ) содействует фокализации основного значения лексемы злоба , так что оксюморон радость злобы дня легко прочитывается как «злорадство». В примере (10) сочетание злоба дня означает вообще окружающую действительность, оцениваемую заведомо отрицательно; в (11) анализируемая конструкция используется автором для иронического обозначения городских толков. Вырванное из евангельского контекста сочетание злоба дня ограничивается в содержательном плане только двумя семантическими признаками – ‘отрицательное’ и ‘сейчас’.
В 60-80-е гг. XIX в. выражение злоба дня все чаще используется для обобщенного именования совокупности общественно-политических проблем, вопросов, интересов, характерных для данного момента:
-
(12) ...качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня» (Антонович М. А. Новые материалы для биографии и характеристики Белинского. 1869);
-
(13) Только враг своей страны... может отрешиться от этого обострившегося вопроса, который составляет злобу дня (Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. Письмо первое. 1881).
В приведенных примерах сочетание злоба дня не несет явно выраженной отрицательной оценочной коннотации, но передает критическую настроенность говорящего имплицитно, усиливая негативную семантику окру- жающих лексем (критик, враг, обострившийся вопрос).
В 70-80-е гг. XIX в. количество употреблений сочетания злоба дня неуклонно растет. Сфера употребления фразеологизма – художественная проза и публицистика. Обличение « злобы дня » становится девизом многих «толстых журналов», в редакциях которых вырабатывалось в этот период «культурнообщественное самосознание» [9, c. 289]. К началу 80-х гг. XIX в. сочетание злоба дня закрепляется в узусе в трех основных значениях: «насущной потребности» (14), «проблемы» (15) и «новости / темы» (16):
-
(14) Злоба дня состоит в борьбе с социализмом (Чичерин Б. Н. Задачи нового царствования. 1881);
-
(15) Волею-неволею он втянулся в жизнь уездного города, в его интересы и злобы дня (Мамин-Сибиряк Д. Н. Привалов-ские миллионы. 1883);
-
(16) Да, эта свадьба была злобой дня в Узле, и все о ней говорили как о выдающемся явлении (Мамин-Сибиряк Д. Н. При-валовские миллионы. 1883).
Фразеологизация сочетания злоба дня сопровождается расширением грамматической парадигмы абстрактного существительного злоба : с начала 1870-х гг. среди примеров из Корпуса встречаются формы множественного числа, например:
-
(17) Майверс повел их в столовую, где хозяин взял на себя роль главного оратора, с веселой бойкостью рассуждая о злобах дня – о последней сплетне, о книжной новинке, о реформе в армии, о реорганизаций скакового спорта (Ахматова Е. Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь. 1873).
С середины 1880-х гг. количество подобных употреблений растет лавинообразно. К концу первой декады ХХ в. они составляют примерно половину всех корпусных фиксаций анализируемой устойчивой конструкции. Расширяется и сфера функционирования сочетания – с начала ХХ в. оно выступает в качестве заголовка газетной рубрики:
-
(18) Злоба дня . Обращаю особенное внимание общества покровительства животным на форейторов конок и на их обращение с лошадьми (Вести. 1903.05.18 // Московский листок. 1903);
-
(19) Злобы дня . К Ф.И. Шаляпину из Палестины едет депутация с приглашением на гастроли (Злобы дня. 1908.12.10 // Петербургская газета. 1908).
Выступая в качестве прагматически-маркированного синонима таких стилистически нейтральных лексем, как новость , проблема , обстоятельство , сочетание злоба дня полностью «перенимает» коллокационные модели, свойственные субстантивам подобного рода. В текстах конца XIX – начала XX вв. фразеологизм активно используется в самых разнообразных адъективных конструкциях. В Корпусе зафиксированы сочетания с качественными прилагательными, отсылающими к различным аспектам внешней и внутренней реальности: «род деятельности» ( политическая, научная, театральная, спортивная, газетная, аграрная злоба дня ); «эмоциональное состояние» ( горячая, жгучая, животрепещущая тревожная злоба дня ); «пространство»: географическое ( столичная , петербургская, деревенская злоба дня ; местные злобы дня ) и социальное ( всеобщая, общественная злоба дня ; великосветские злобы дня ); «время» ( тогдашние, современные, новые, последние злобы дня ; ежедневная, текущая, старая, ближайшая злоба дня ), например:
-
(20) Эта новинка являлась, по-видимо-му, текущей театральной злобой дня (Базунов С. А. Александр Даргомыжский. 1894);
-
(21) Один из таких фокусов, составляющий теперь спортивную злобу дня , это «допинг» (Допинг. 1903.07.05 // Русский инвалид. 1903);
-
(22) Предпраздничная злоба дня . Московские хозяйки жалуются, что цены на живность поднялись перед праздниками до невозможности (В России. Телеграммы наших корреспондентов. 1910.01.04).
Десемантизация выражения злоба дня делала возможным сочетание его не только с местоименными прилагательными ( всякие, все, другие, разные злобы дня ), но и с количественными и порядковыми числительными ( две злобы дня, вторая злоба дня ):
-
(23) Второй петербургской злобой дня был переезд высочайшего двора во вновь отстроенный Михайловский замок (Гейнце Н. Э. Коронованный рыцарь. 1898).
Синтаксические функции анализируемого фразеологизма в предложении разнообразны: он выполняет роль подлежащего, сказуемого, именной части составного сказуемого в конструкциях с полувспомогательными глаголами быть, становиться, являться, превращаться в..., оставаться , дополнения в предложных оборотах с глаголами типа говорить, отзываться, беседовать, обсуждать , обстоятельства в деметафоризированных устойчивых выражениях, ср. типичные корпусные примеры:
-
(24) …в городе злобы дня затихли , и единственная новость – ... открытие лу-кояновской столовой (Короленко В. Г. В голодный год. 1907);
-
(25) Злобой дня Нью-Йорка сейчас писатель Уптон Синклер (Письмо из Нью-Йорка. 1911.10.10 // Московская газета. 1911);
-
(26) Осторожно и тактично он ввел меня в «злобы дня» данной семейной ситуации (Короленко В. Г. Письма. 1910).
Начиная со второй половины 1920-х среди конструкций со словами злоба дня начинают преобладать глагольные и именные сочетания с предлогом на ( поговорить, отозваться, писать на злобу дня ; заметки на злобу дня ). К концу 1970-х гг. субстантивные конструкции становятся ведущим типом употребления, поэтому в настоящее время можно говорить о существовании у анализируемого словосочетания устойчивого лексико-грамматического контекста – это оборот, в котором предлог на следует за существительным (нередко в форме множественного числа), в широком смысле обозначающим текст, ср. примеры Корпуса: слова, стихи, комментарии, статеечки, лозунги, сатира, тексты, фельетоны, репризы, разговоры, отступление, факты, полемика, мессаджи, интервью на злобу дня :
-
(27) Ещё когда я читал только его репортажи на злобу дня , я почувствовал… что это тот человек, с которым я мог бы общаться (Садулаев Г. Таблетка. 2008).
В этих и подобных сочетаниях выражение злоба дня является своеобразным определением в постпозиции, выступая эмоционально-маркированным синонимом широкозначного прилагательного актуальный. Из семантической структуры сочетания злоба дня в большинстве случаев исчезают ключевые аксиологические и темпоральные характеристики, восходящие к евангельскому тексту. К числу немногих исключений относятся примеры, где отчетливо прослеживается генетическая связь с тем контекстом культуры, в котором происходило формирование ценностных смыслов анализируемого устойчивого выражения:
-
(28) …поиски царства Божия, что «внутрь нас есть», требование святости, практического, каждодневного воплощения всеми древнего идеала благочестия, явленного в деяниях Спаса Христа, апостолов, древних подвижников церкви... безо всякой уступки «злобе дня» , мирским и политическим суетам (Голованов В. Остров. 2002).
Стоящий на верхней ступени иерархии системы координант, контекст культуры «пронизывает нижестоящие дейктический и дискурсивный контексты» [3, c. 39]. При сохранении широкого ценностного контекста Священного Предания устойчивая конструкция злоба дня даже вне исходного микротекста способна вызывать в сознании первоначальный, евангельский образ – мысль о подчинении дóльнего гóрнему и врéменного вечному. В этой связи приведем пример использования темпорального сочетания злоба дня в проповеди св. праведного Алексия Мечева (†1923), не вошедшей в Корпус:
-
(29) Не все же христианину жить в суете мира, в этом житейском круговорте, в этих мелких стремлениях и целях себялюбия и чувственности, в этой злобе насущного дня . Есть другая высшая область, в которую хоть бы по временам возносился он и отдыхал бы душею своею, это – область сердца, согретого святым чувством любви к Богу, подвигом доброго дела, духом самой чистой молитвы (Пастырь добрый, c. 44).
Заключение
Корпусный когно-лингвокультурологи-ческий подход, предполагающий целостное исследование взаимосвязи языка, сознания и культуры, позволил выявить ментальные механизмы, лежащие в основе процесса фразео-логизации библейских микротекстов. Специфика устойчивых выражений, генетически связанных с текстами Священного Писания, предопределяется уникальным характером Библии как словесной формы Откровения, являющего человеку непреложные законы бытия. В процессе постепенной секуляризации сознания происходит отрыв от многовековой культурной и языковой традиции. Вне первоначального контекста микротексты начинают функционировать самостоятельно и входят в языковой узус в ином, трансформированном, а нередко и десемантизированном виде, утрачивая при этом ключевые аксиологические и темпоральные характеристики, восходящие к евангельскому тексту.
Список литературы Языковая темпоральность в диахронии: корпусный аспект
- Алексина, Т. А. Многообразие темпорального опыта (этическое исследование): автореф. дис. д-ра филос. наук: 09.00.05/Алексина Татьяна Алексеевна. -М., 1996. -34 с.
- Беловинский, Л. В. Культура русской повседневности/Л. В. Беловинский. -М.: Высш. шк., 2008. -767 с.
- Заботкина, В. И. Слово и смысл/В. И. Заботкина. -М.: Изд-во РГГУ, 2012. -431 с.
- Кузнецова, Ю. Л. Современные корпусные исследования языка: новые подходы/Ю. Л. Кузнецова, Т. В. Велейшикова//Вопросы языкознания. -2010. -№ 6. -С. 108-124.
- Пиккио, Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык/Р. Пиккио. -М.: Знак, 2003. -720 с.
- Рахилина, Е. В. 30 лет спустя: новые методы, инструменты и задачи когнитивной лингвистики/Е. В. Рахилина//Материалы круглого стола «Когнитивные методы анализа семантики слова» (РГГУ, 30 окт. 2011 г.). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.cognitive.rggu.ru/article.html?id=. -Загл. с экрана.
- Рябцева, Н. К. Аксиологические модели времени/Н. К. Рябцева//Логический анализ языка. Язык и время. -М.: Индрик, 1997. -С. 78-95.
- Святитель Иоанн Златоуст. Год со святителем Иоанном Златоустом/сост. Н. Малахова. -М.: Моск. подворье Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 2013. -400 с.
- Флоровский, Г. Пути русского богословия/Г. Флоровский. -Вильнюс: [б. и.], 1991. -599 с.
- Teubert, W. My version of corpus linguistics/W. Teubert//International Journal of Corpus Linguistics. -2005. -Vol. 10 (1). -P. 1-13.