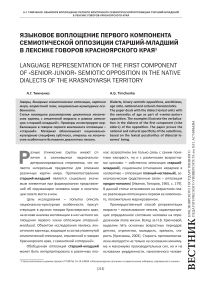Языковое воплощение первого компонента семиотической оппозиции старший-младший в лексике говоров Красноярского края
Автор: Тимченко Анастасия Георгиевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 3 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению диалектных лексических единиц с семантикой возраста в рамках оппозиции «старший-младший». Примеры иллюстрируют вербализацию в говорах первого компонента оппозиции - «старший». Материал обосновывает национально-культурную специфику субэтноса, опираясь на лексические особенности бытования диалектных лексем.
Говоры, бинарные семиотические оппозиции, картина мира, возрастной план, национально-культурные особенности
Короткий адрес: https://sciup.org/144154174
IDR: 144154174
Текст научной статьи Языковое воплощение первого компонента семиотической оппозиции старший-младший в лексике говоров Красноярского края
Цель исследования – попытка описать национально-культурные особенности, присутствующие в русских говорах Красноярского края, на основе анализа экспликации в них частного во- площения первого члена оппозиции старший- младший. Объектом исследования явились лек- сические единицы, входящие в состав упомянутой семиотической оппозиции, отраженной в говорах Красноярского края, с семантикой «старший».
Обобщенная оппозиция старший-младший может быть интерпретирована в различных пла- нах: возрастном (не только связь с самим понятием «возраст», но и с различными возрастными циклами – собственно оппозиция старший-младший), социальном (отношения иерархии в коллективе – оппозиция главный-неглавный), генеалогическом (родственные связи – оппозиция предок-потомок) [Иванов, Топоров, 1965, с. 179]. В данной статье остановимся на возрастном плане реализации оппозиции и первом ее компоненте, положительно маркированном.
Преимущественный способ репрезентации возраста – использование лексем, характеризующих определенное состояние человека на опре- деленном этапе жизни. Вслед за Н.В. Крючковой, выделим пять основных возрастных периодов:
детство, отрочество, молодость, зрелость, старость [Крючкова, 2003]. Старость противопоставлена молодости не только на основании минимума и максимума производительных сил, но и на основании умудренности, накопленного челове-
1 Статья выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-14-24004 «Этнокультурное сознание и самосознание сибиряка, отраженное в языке».
ВЕСТНИК
ческого опыта и неопытности. Заметим, что анализируемые лексемы отражают не современное, а довольно архаичное мировидение. В связи с этим оценочные полюса со временем могут меняться: в современном обществе положительно будет маркирован уже второй член оппозиции – младший , поскольку связывается в сознании носителей языка с энергией, беззаботностью и ощущением, что вся жизнь только предстоит, второй же член оппозиции – старший – ассоциируется в современном представлении с концом жизни, угасанием, немощностью. Приведем данные Ассоциативного словаря. На слово-стимул «старый» были следующие реакции: дед (20 респондентов), пень (7 респондентов), молодой (6 респондентов) – подтверждение рассматриваемой нами оппозиции, отраженной в сознании носителей языка, остальные реакции менее яркие. На слово-стимул «молодой»: человек (25 респондентов), парень (7 респондентов), старый (6 респондентов) – вновь факт наличия оппозиционного представления, остальные реакции менее частотны и ярки [Ассоциативный словарь…, 2015].
Первый компонент оппозиции – старший – представлен довольно полно в лексике говоров Красноярского края, но не так ярко и разнообразно, как антонимичный ему младший. Среди прямых именований данного лексико-семантического поля встречаем субстантивные формы, которые называют человека, достигшего этого возраста: подстАрок – пожилой человек (ССГ), стожИтель – долгожитель (ССГ), сивУн – старый человек, старик (СЮГ), шамкУн – 1. старик (СЮГ), бАбка – пожилая женщина (СЮГ), мамАша – используется в качестве обращения к незнакомой женщине среднего или пожилого возраста (СЦГ), набОльший – в знач. сущ. главный, старший (СЦГ), ста-рушнЯ – уничиж. старухи (СЦГ). В формах именований либо в отдельных морфемах заложены различные оттенки значения: сивУн – от «сивый, по цвету: темно-сизый, серый и седой, темный с сединою, с примесью белесоватого, либо пепельного» [Даль, 1882, т. 4, с. 184], шамкУн – от «шамкать, шам(шав)ить и шамшить, пришепетывать по-стариковски» [Даль, 1882, т. 4, с. 639], аффикс -ун- в данном случае усиливает характеристику лица; плюральные формы мамашА и старушнЯ реализуют в данном случае пренебрежительноуничижительную коннотацию, указывая на отрицательную мотивировку их употребления.
Прилагательные, характеризующие данный возрастной период, употребляются как в полной, так и в стяженной формах, а также отмечаются степени сравнения: постАре – сравн. к старший (ССГ, СЦГ), давнОшний – 1. проживший много лет, старый (СЮГ) . В лексике говоров встречаются также глагольные формы, связанные с вышеупомянутым периодом жизни: остАреть – состариться (ССГ, СЦГ), охлЯть – обессилеть от старости (ССГ), перестАрица – умереть от старости (ССГ), жЁлкнуть – 1. увядать 2. затухать 3. стариться (СЦГ), пожОлкнуть – 2. состариться (СЦГ). Любопытным представляется факт перенесения свойств живой природы на жизнь человека ( жЁлкнуть, пожОлкнуть ), а также модификация значения, бытовавшего на другой территории («охлЯть, кур. похудеть, перепасть телом» [Даль, 1881, т. 2, с. 800]).
Как отмечают в своем труде Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров, характеризация возраста оказывается значимой и «при описании элементов низших уровней, например дедушка-водяной, дедушка-домовой» [Иванов, Топоров, 1965, с. 179]. Вслед за авторами, отмечаем наличие подобных лексем: дедушка-боровОй – леший (ССГ), дедушка-сусЕдушка – домовой (ССГ, СЮГ, СЦГ). В именованиях заключено несколько семантических звеньев (боровОй – от бор – «лес»; сусЕдушка – от «сосед», данные лексические компоненты говорят также о проявлении оппозиционного деления «свой-чужой»). Ключевой семантический элемент данных именований – дедушка, что уже говорит об особом, уважительном отношении к данным существам, а не только об указании на их возраст. Это связано с тем, что славяне-язычники имели культ предков и поклонялись огню и его покровителям – Даждьбогу, Перуну (олицетворение небесного огня) и Сварожичу (олицетворение земного огня) [Афанасьев, 1850]. Свидетельств поклонения огню и упоминания обрядов, связанных с ним и домовым, в говорах Красноярского края не встретили. Однако домового именуют ласково «дедушка», указывая на почтительные родственные отношения. На домового со временем перешли, как отмечал А.Н. Афанасьев, «…все благотворные понятия, соединяемые прежде с очагом, и все качества домовитого хозяина-патриарха, каким был старший в роде или семье» [Там же]. Как идеальный хозяин дедушка-домовой оберегал живность: «Дедушка-суседушка, люби нашу скотину, пой, ласкай, корми, для себя береги» (ССГ, 1992, с. 76). У домового просят разрешения как у старшего и хранителя перед тем, как войти в новый дом: «Дедушка-суседушка, пусти меня в дом, не ночь ночевать, не год годовать, а век вековать» (установка на постоянное счастливое житье) (ССГ, 1992, с. 76). Чтобы задобрить хранителя домашнего очага, совершали подношения: «Дедушке-суседушке молочка налей в мисочку, на ночь так оставь, вот он добренький будет, и на лад у вас всё пойдёт» (СЦГ, 2003, т. 1, с. 244). Довольно интересным представляется факт существования в речи диалектоносителей лексем, связанных с духами дома и леса (см. подробнее: [Тимченко, 2014, с. 200–202]), и отсутствия упоминания о других божествах. А.Н. Афанасьев объясняет это тем, что в связи с пришествием христианства многие предания стерлись из народной памяти, но она хранит связь с домовым, поскольку его (как главного хранителя дома и очага) очень сложно изжить из мировидения крестьянина-славянина, жизнь которого целиком вращалась вокруг его мира – собственного дома.
Почетное именование «дедушка» в говорах носит и леший. Это еще раз подтверждает, что славянин переносил свою веру в семейные связи и собственную «семейную» модель мира на все окружающее: на лес, реку и т.п. Дедушка-боровой, как и домовой, – образец заботливого хозяина, который бережет свои владения и оберегает их от воздействия людей (хотя в рамках оппозиции «дом-лес» два этих персонажа противопоставляются друг другу). Часты в славянских верованиях упоминания о том, как леший любит пошутить над людьми, путая им дорогу: «В лесу заблудимся, а дедушко-боровой ведет далее, далее, всё далее» (ССГ, 1992, с. 76).
Таким образом, наступление определенного возраста определяется не столько количеством прожитых человеком лет, сколько способностями и физическими характеристиками, которые он приобретает к этому моменту, поэтому не столь часты в говорах именования лиц с указанием на их точный возраст. Разнообразие возрастных, ролевых именований человека, относимых к семантическому полю «возраст», довольно обширно и представляет интерес для лингвокультурологии, а также социологии, этнографии, поскольку в вербальной репрезентации вышеупомянутых лексем в наибольшей степени проявляется не только языковое, но и этническое сознание и самосознание.
Список сокращений
-
1. ССГ – Словарь русских говоров северных районов Красноярского края. Красноярск: Изд-во КГПИ, 1992.
-
2. СЦГ – Словарь русских говоров центральных районов Красноярского края: в 5 т. Красноярск: РИО КГПУ, 2003–2011.
-
3. СЮГ – Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988.
Список литературы Языковое воплощение первого компонента семиотической оппозиции старший-младший в лексике говоров Красноярского края
- Ассоциативный словарь Приенисейской Сибири. URL: http://react.ftn24.ru
- Афанасьев А.Н. Дедушка домовой. URL: http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_311.htm
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд.: Тип. М.О. Вольфа, СПб.; М., 1881. Т. 2: И -О. 814 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд.: Тип. М.О. Вольфа, СПб.; М., 1882. Т. 4: Р -?. 712 с.
- Иванов Вяч. В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. 246 с.
- Крючкова Н.В. Концепты возраста: на материале русского и французского языков: автореф. дис.. канд. филол. наук. Саратов, 2003. 23 с.
- Тимченко А.Г. Отражение оппозиции дом-лес в этнокультурном сознании носителей красноярских говоров//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2014. № 3 (29). С. 200-202.