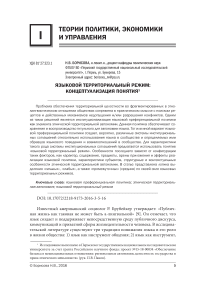Языковой территориальный режим: концептуализация понятия
Автор: Борисова Н.В.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Теории политики, экономики и управления
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Проблема обеспечения территориальной целостности во фрагментированных в этнолингвистическом отношении обществах сопряжена в практическом смысле с поиском рецептов и действенных механизмов недопущения и/или разрешения конфликтов. Одним из таких решений является институционализация языковой преференциальной политики как элемента этнической территориальной автономии. Данная политика обеспечивает сохранение и воспроизводство титульного для автономии языка. Тот или иной вариант языковой преференциальной политики создает, вероятно, различные системы институциональных соглашений относительно использования языка в сообществе и определяемых ими образцов языкового поведения и взаимоотношений в сообществе. Для характеристики такого рода системы институциональных соглашений предлагается использовать понятие «языковой территориальный режим». Особенности последнего зависят от конфигурации таких факторов, как характер, содержание, предметы, арены приложения и эффекты реализации языковой политики, характеристики субъектов, структурные и контекстуальные особенности этнической территориальной автономии. В статье представлена логика выделения «сильных», «слабых», а также «промежуточных» (средних) по своей силе языковых территориальных режимов.
Языковая преференциальная политика, этническая территориальная автономия, языковой территориальный режим
Короткий адрес: https://sciup.org/147204216
IDR: 147204216 | УДК: 81''27:323.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2016-3-5-16
Текст научной статьи Языковой территориальный режим: концептуализация понятия
Известный американский социолог Р. Брубейкер утверждает: «Публичная жизнь как таковая не может быть а-лингвальной» [9]. Он отмечает, что язык создает и поддерживает непосредственную среду публичного дискурса, коммуникаций и приватной сферы жизнедеятельности человека. В исследовательской литературе существуют три традиции понимания языка и его роли в жизни общества: 1) язык как инструмент общения; 2) язык как инструмент, обеспечивающий доступ к определенной культуре [19]; 3) язык как ключевой элемент идентификации [12, р. 287]. Первые две можно условно обозначить как имеющие отношение к социолингвистике, которая понимает под языком постоянно изменяющуюся систему, выполняющую в обществе и культуре целый ряд функций (выражения, обозначения, познания, трансляции и коммуникации) [3].
В зависимости от того, какой методологической ориентации придерживается исследователь, формируется понимание третьей – идентификационной – роли (функции) языка в обществе. Сторонники примордиализма рассматривают язык как идентификатор этнической принадлежности его носителей и маркер ее границ. Они фактически настаивают на том, что язык предписан индивиду его происхождением и родственными связями. Д. Горовиц, соглашаясь с отдельными положениями примордиализма, указывает на то, что язык по сути является маркером этнической идентичности [14]. Такому пониманию роли языка примордиализмом противостоит конструктивистский взгляд. Конструктивисты обвиняют примордиализм в «эссенциали-зации языка», рассматривая язык в инструменталистском ключе – как результат рационального выбора индивидов [2, c. 32]. Здесь уместно обратиться к идеям Р. Брубейкера, который, изучая социально-политическую роль религии и языка, пишет, что язык (равно как и религия) является более важным по сравнению с этничностью доменом в процессе первичной социализации и «хотя язык нередко представляется как примордиальный феномен, таковым на самом деле не является, будучи изменчивым во времени» в разных контекстуальных условиях [9, р. 3]. Вслед за Р. Брубейкером Н. Борманн, Л. Цедерман и М. Вогт отмечают более значимую по сравнению с религией роль языка в развертывании этнических конфликтов. Они обращают внимание, что языковые различия лучше (проще) осознаются индивидом, чем религиозные, особенно в случаях, если этническая идентичность основывается на лингвистической [8, р. 5].
А. Карла справедливо указывает на то, что язык как таковой не является предзаданным элементом развития идентичности индивидов. «Она формируется через практики и системы взаимодействия индивида и государства, личности и власти» [12, р. 287]. Речь в данном случае идет об инструментальной коммуникативной роли языка, посредством которой он становится политически значимым. Язык оказывается значимым как в инструментальном, так и символическом отношениях. Э. Лиу, ссылаясь на А. де Токвилля, отмечает, что политическая роль языка проявляется и в том, что он – [фактически] источник национального единства и инструмент для конструирования политического сообщества [17]. Сходной точки зрения придерживается и Сью Райт, которая считает, что язык является условием и одновременно элементом появления и развития национальных государств [22].
В рецензии на книгу «Традиции государства и языковые режимы», изданной под редакцией Л. Кардинал и С.К. Зоннтаг [11], Ю. Кубота пишет: «Язык есть политический феномен <…>, поскольку язык является предметом политического спора» [15]. В связи с этим, было бы ошибочным полагать, что сам язык, фрагментируя общество, может быть тем самым угрозой территориальной целостности государства. Фрагментируя сообщество, стимулирует конфликт не собственно язык, а его политико-институциональный статус, являющийся результатом реализации языковой политики и имплементации конкретных публично-правовых решений относительно языка. Именно такой взгляд на феномен языка и связанные с ним политические курсы дает возможность обсуждать его политическое измерение.
Проблема обеспечения территориальной целостности во фрагментированных в этнолингвистическом отношении обществах сопряжена в практическом смысле с поиском рецептов и действенных механизмов недопущения и/ или разрешения конфликтов. Помимо таких механизмов, как «power-sharing», широко распространена институционализация преференциальных политик (policies), направленных на защиту культуры и обеспечение особых прав этнических меньшинств. Подобные механизмы и политики являются составляющими элементами этнической территориальной автономии (далее – ЭТА) как институционального решения проблемы сохранения территориальной целостности государства и обеспечения прав этнических меньшинств. Преференциальная политика обеспечивает гарантии и учитывает предпочтения как ЭТА в целом, так и отдельных титульных и нетитульных этнических групп внутри нее. Объектом преференциальной политики выступает широкий спектр вопросов, центральное и нередко символическое место среди которых занимают преференции, связанные с такими базовыми основаниями выделения и спецификации ЭТА, как этничность, язык, религия. Американский политолог Э. Лиу, ссылаясь на Д. Горовица и П. Бурдье, отмечает, что признание языка означает наделение правами [на самобытность] его носителей [17, р. 12].
Под языковой политикой понимается политика (как система мер и действий), направленная на развитие языка, стимулирование или сдерживание контактов и конкуренции между языками в сообществе. Иными словами, языковая политика – это политика, которая имеет языковые эффекты. Языковая политика является преференциальной, если обеспечивает сохранение и воспроизводство титульного для ЭТА языка, а также (в некоторых случаях) миноритарных языков, носители которых относятся к нетитульным этническим группам внутри ЭТА. К. Уильямс выделяет три фактора, обусловливающих объем, содержание и период осуществления языковой преференциальной политики:
-
1) политический контекст определения, реализации и коррекции языковых стратегий (политических курсов);
-
2) отношения между политиками, чиновниками и группами интересов;
-
3) роль законодательных реформ, судебной практики в контексте защиты или модификации языковых стратегий [21, р. 102].
Преференции в сфере языка (в т.ч. наделение его официальным статусом) могут быть институционализированы и гарантированы как национальной конституцией, специальным национальным законом, так и субнациональными (региональными) или локальными нормативно-правовыми актами.
Институционализация права на язык обеспечивает выживание и воспроизводство его носителей и образуемых ими этнолингвистических сообществ. Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что воспроизводство этнолингвистического сообщества (группы, меньшинства) требует такой конфигурации и направленности языковой преференциальной политики, которая не только обеспечивает реализацию права меньшинства на изучение языка и использование его в частной жизни, но и 1) организует комплексное школьное образование на языке меньшинства, который таким образом становится средством обучения [9, p. 8], и 2) делает язык средством коммуникации в публично-правой сфере и практиках администрирования. Иными словами, происходит смена модуса языка с культурного на публичный. Здесь уместным будет привести пример каталанского языка, который до реформы 1982 г., преимущественно во франкистский период, хотя и был широко распространен в частном, бытовом общении в Каталонии, особенно в ее аграрных территориях, но не имел официального статуса, не был введен в программы школьного обучения. «Каталанцы говорили, общались, но не умели грамотно писать на родном [каталанском] языке»2. Такое положение языка, отмечают эксперты, предопределило программу стандартизации (нормализации) каталанского языка, осуществленную последовательно в 1980–1990-е гг. Языковая политика в Каталонии, реализованная под лозунгом «Вернем каталанский»3, не только стандартизировала язык4, но и серьезным образом изменила языковую ситуацию в регионе.
Под языковой ситуацией, как правило, понимается «состояние языков в государстве в их территориально-социальном взаимоотношении в пределах целого государства или административно-территориальных регионов, или административно-политических образований» [5, c. 6–7]. Понятие «языковая ситуация» чаще всего используется в социолингвистике и отражает не только нормативный и публичный статус языка, но и указывает на его «жизнеспособность» с точки зрения его количественных (идиоматических) показателей [1]. Однако для описания политических результатов и эффектов институционализации преференций для этнической группы в сфере языка это понятие в полной мере не подходит. Более адекватным представляется использование понятия языкового территориального режима (далее – ЯТР) как элемента ЭТА, формируемого (устанавливаемого) в результате институционализации языковой преференциальной политики.
В исследовательской литературе относительно распространенным является понятие «языковой режим» (language regime) [6; 10; 17; 20]. Вместе с тем консенсус относительно его определения отсутствует. Как правило, исследователи связывают языковой режим с практикой функционирования политических институтов и процедур в политии. Понятие «языковой территориальный режим» является еще менее определенным. Так, Р. Брубейкер, используя его в одной из своих работ для характеристики сложившейся в Квебеке практики реализации языковой политики [9, р. 9], не дает ему определения. Определение этого понятия требует обращения к типологии языковых режимов, предложенной Э. Лиу. Она наряду с иными типами языковых режимов выделяет “power-sharing” языковой режим, который характеризуется правовым признанием нескольких языков равнозначными вне зависимости от того, является ли группа–носитель языка миноритарной или же доминирующей в этнической структуре сообщества [17, р. 15]. Иными словами, институционализация этого типа режима увязана с формированием политических институтов “power-sharing”, являющихся в свою очередь основополагающим элементом ЭТА. Таким образом, ЯТР представляет собой систему специальных институциональных соглашений по вопросам использования языка, которые устанавливают образцы взаимодействия между членами регионального (территориального) сообщества [7].
Л. Кардинал указывает на то, что «формируемый в контексте властных отношений, политики перераспределения и установления гегемонии языковой режим имеет три измерения: функциональное, символическое и политико-правовое» [10, р. 4]. Первое измерение (функциональное) касается языкового планирования, под которым, как правило, понимают собственно реализацию языковой политики [1]. Различают два вида языкового планирования: планирование относительно корпуса языка (corpus language planning) и планирование относительно статуса языка (status language planning) [13, р. 5]. Решения, касающиеся норм и правил используемого сообществом языка, составляют планирование относительно корпуса языка. Эти решения чаще всего связаны с грамматикой и лексикой языка и редко имеют сколько-нибудь политическое значение. Вместе с тем именно к таким решениям следует относить реформы языка, включающие, например, смену алфавита или разрешение параллельного использования в письменной речи двух и более алфавитов. Показательными в этом плане оказываются как примеры замены арабской вязи в конце 1920-х гг. на латиницу в Турции или переход Молдавии с кириллицы на латиницу при сохранении кириллического скрипта в Приднестровье после развала СССР, так и неудавшиеся попытки латинизации алфавита в Чечне и Татарстане в 1990-е гг. в период децентрализации в России и максимального ослабления федерального центра. Последние два случая, полагаем, следует рассматривать не столько как функциональное измерение языковой политики, сколько как символическое воплощение требований регионализма и сецессии, безусловно сопряженные с разрешением проблемы сохранения территориальной целостности государства.
Планирование относительно статуса языка включает решения, касающиеся политико-правового положения языка, а также организации системы его преподавания и изучения. Здесь уместным будет привести пример энти-тетов Боснии и Герцеговины (Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины), где сложившаяся с сербским, хорватским и бошняцким языками ситуация является одним из маркеров крайне конфликтных этнических отношений, подтверждая тезис о том, что Босния и Герцеговина (БиГ) как национальное государство в его нынешней конструкции является крайне неустойчивым, «странным государством», суверенитет которого «размывается сразу на двух уровнях», поскольку высокий уровень фракционализации и институционально оформленной сегментации системы управления страной разрушают внутренний государственный суверенитет [4]. Дейтонские мирные соглашения 1995 г. подорвали единство политики в области образования, не сформировав единых образовательных целей, не определив общих ценностей, основанных на позитивном отношении к своей стране и патриотических чувствах [18], и обусловили институционализацию сегрегированной системы школьного образования в БиГ. В Республике Сербской обучение ведется исключительно на сербском языке, в то время как в Федерации Боснии и Герцеговины была установлена двойная (разделенная) система образования. В пяти бошняцких кантонах образование осуществляется на бошняцком языке; в трех хорватских жупаниях – на хорватском. А в смешанных кантонах создана особая образовательная система, воплощением которой стал феномен «двух школ под одной крышей». Такие школы имеют разные входы для детей из бошняцких, сербских или хорватских семей; школьный двор разделен на две части. Решения в отношении языка, подобные реализованным в БиГ, являются политически релевантными, поскольку составляют одновременно содержание, предмет языковой политики, а также имеют, безусловно, политические последствия с точки зрения функционирования политии.
«Символическое измерение языкового режима, - считает Л. Кардинал, - проявляется в свойственных ему репрезентациях и символах, в то время как политикоправовое - в институционализированных правилах, требованиях и нормативном признании практик использования языка членами сообщества в различных сферах жизнедеятельности сообщества» [10, р. 4]. Примером политико-правового измерения языкового режима является случай швейцарской франкофонной Юры, которая в результате череды референдумов (в 1970-е гг.) и долгих согласований получила в 1994 г. статус кантона, выделившись из состава немецкоязычного Берна. Став кантоном, Юра, как и иные кантоны Швейцарии, получила право на монолингвизм – приоритетное использование во всех сферах жизнедеятельности сообщества кантона французского языка как одного из трех государственных языков страны. В настоящее время на улицах, в школах и храмах Юры (за исключением одного муниципалитета) крайне затруднительно встретить немецкоязычную речь. Закрепилось и нормализовано французское название ее столицы - Делемон, в то время как немецкое название упоминается в туристических справочниках много реже. Городское пространство Делемона преимущественно франкофонно: названия магазинов, улиц, административных зданий исключительно на французском языке. И лишь на стенах отдельных зданий в Делемоне сохранились таблички с историческими справками на немецком и французском языках, являющиеся своеобразными «осколками» наследия власти Берна.
Аналогичным является пример франкофонной Валле д’Аосты, где официальным региональным языком еще в 1909 г. был признан французский. Публично-правовое пространство Аосты, самой маленькой автономии Италии, является преимущественно франкофонным, о чем свидетельствуют и названия улиц5, и вывески магазинов, и указатели на зданиях учреждений органов публичной власти. К служащим, занятым в органах региональной (местной) власти, больницах и иных публичных учреждениях, обязательно предъявляется требование знать французский язык. Вместе с тем СМИ, а также публичные политики, партии являются италоязычными, да и сам французский не является языком межличностной коммуникации в регионе6. На улицах Аосты в основном слышна итальянская речь, а в небольших деревушках распространен франко-провансальский язык патуа. Однако обучение на всех ступенях школы ведется исключительно на французском языке, итальянский же изучается в качестве предмета. Вероятно, сохранение за французским языком официального статуса обусловлено как символическими мотивами защиты исторической памяти о длительной борьбе вальдастанцев за автономию, так и прагматическими стимулами обеспечения коммуникации с соседней Францией7. Пример Валле д’Аосты является прекрасным подтверждением тезиса Т. Агарина о соотношении символической и прагматической языковой политики [6, р. 366].
Символическое измерение языкового режима отсылает нас к мысли, что язык как идентификационный маркер имеет символический статус: пока язык жив, живо и сообщество. Здесь интересными оказываются идеи А. Карла о том, что символическая языковая политика нередко продуцирует как языковую сегрегацию [12, р. 292] (пример Федерации БиГ), так и формирование фактического монолингвизма внутри языкового сообщества. В последнем случае показательным является пример испанской Каталонии, где билингвальное региональное сообщество (признан государственным испанский (кастильский) язык и региональным – каталанский) имеет тенденцию к постепенному превращению в монолингвальное, что обусловлено фактически монолингваль-ной образовательной системой. Эксперты отмечают, что включение в образовательные программы начальной и средней школы 2–3 часов кастильского языка с точки зрения уровня грамотности населения Каталонии недостаточно8.
Приведенные выше примеры показывают, как тот или иной вариант языковой преференциальной политики создает, вероятно, различные системы институциональных соглашений относительно использования языка в сообществе и определяемых ими образцов языкового поведения и взаимоотношений в сообществе. Б. Ладо отмечает, что языковую политику можно характеризовать как набор не только административных регулятивных мер, но и ее «неявных форм, представленных в системе образования, мифах, пропаганде и языке публичного пространства» [16, р. 135]. Наиболее интересным представляется язык публичного пространства (язык улиц, торговых центров, школ, рынков, офисов), а также приватных сфер жизни современного человека. Изучение этого пространства затруднено, поскольку сложно измерить реальный масштаб распространения языка, силу и глубину его укорененности в сообществе. Такое исследование потребует обязательного обращения к качественным методам сбора эмпирических данных, привлечения инструментария антропологического наблюдения.
Представляется, что не только характер языковой политики, ее субъектный состав, но также структурные и контекстуальные характеристики ЭТА9
обусловливают особенности ЯТР. Тип режима можно определить исходя из характеристики двух его измерений: глубины и универсальности регулирования вопросов использования языка на трех основных аренах общественных и межличностных взаимодействий: 1) образование, 2) управление, 3) масс-медиа и публичное коммуникативное пространство. Комбинация этих измерений позволяет установить разные по силе типы ЯТР.
Набор возможных решений относительно использования языка в политико-правовой сфере широк. Вероятны ситуации, когда язык титульной группы ЭТА имеет статус официального языка (равного), признанного национальной конституцией и региональным статутом; используется органами власти на всех уровнях, включая судопроизводство и охрану правопорядка (например, оба энтитета в БиГ или Квебек в Канаде). В других случаях язык титульной группы ЭТА имеет статус официального регионального языка и используется всеми органами власти, включая судопроизводство и охрану правопорядка (например, Каталония и Страна Басков в Испании). Или язык титульной группы ЭТА не имеет статуса официального регионального языка или имеет статус официального регионального языка, но используется только в делопроизводстве (например, Пенджаб в Индии).
Аналогична логика выделения и характеристики критериев для построения типологизации ЯТР и для сферы образования. Может быть институционально закреплено в качестве обязательного требование организации обучения на языке титульной группы ЭТА на всех ступенях образования и на всей территории автономии (Квебек в Канаде, Каталония в Испании). Или нормативно закреплены и практически реализуются одновременно несколько моделей билингвального обучения, в т.ч. и модель обучения на языке титульной группы ЭТА на начальной и средней ступенях обучения (Андхра Прадеш и Телангана в Индии, Воеводина в Сербии). Наконец, язык титульной группы ЭТА может преподаваться лишь факультативно на любой из ступеней обучения, но преимущественно в начальной школе (Пенджаб и Нагаланд в Индии).
Что касается такой арены общественных и межличностных взаимодействий, как масс-медиа и публичное коммуникативное пространство, то можно встретить случаи, когда региональное правительство финансирует медийное вещание на языке титульной группы ЭТА, определяя долю программ, выходящих на этом языке, а обязательное название и написание топонимов на языке титульной группы ЭТА нормативно закреплено региональным законодательством (например, Каталония в Испании). Региональное правительство в иных случаях определяет только долю программ, выходящих на языке титульной группы ЭТА, право названия и написания топонимов на языке титульной группы является опциональным (Валле д’Аоста). И, наконец, возможно отсутствие закрепленного за региональным правительством права регулирования языковых аспектов медийного вещания на территории ЭТА; нормативно закреплено в качестве опционального право вещания на языке ЭТА в качестве частной инициативы; требование и право названия и написания топонимов на языке титульной группы отсутствует (Сабах и Саравак в Малайзии).
Таким образом, конфигурация предложенных вариаций содержания, предметов, арен приложения и эффектов реализации языковой политики позволяет выделить «сильные», «слабые» режимы, а также, вероятно, широкий спектр «промежуточных» (средних) по своей силе языковых территориальных режимов. При этом их сила может рассматриваться как маркер силы (политического веса) этнической территориальной автономии.
Список литературы Языковой территориальный режим: концептуализация понятия
- Bахтин Н., Головко Е. Социолингвистика и социология языка: учеб. пособие. СПб.: Изд. центр «Гуманитарная Академия»; Изд-во Европейского университета в СПб, 2004. 336 с.
- Германова Н. Искусственные языки воображаемых сообществ: проблема национальных языков в западной лингвистике//Вестник МГЛУ. 2009. № 557. С. 24-41.
- Кульжанова Г. Язык политики как социолингвистический феномен . URL: www.policy03.narod.ru/29.doc (дата обращения: 31.10.2016).
- Соколова Е. Босния и Герцеговина: опыт несуверенной демократии//Неприкосновенный запас. 2007. № 6 (56). С. 145-155.
- Тихонова Р. Языковая ситуация и языковая политика как понятия социолингвистики. Самара: СГПУ, 2007.
- Agarin T. Flawed Premises and Unexpected Consequences: Support of Regional Languages in Europe//Nationalism and Ethnic Politics. 2014. Vol. 20, № 3. P. 349-369.
- Borisova N., Sulimov K. Linguistic Territorial Regimes in Multi-lingual Ethnic Territorial Autonomies .
- Bormann N.-C., Cederman L.-E., Vogt M. Language, Religion and Civil War//Journal of Conflict Resolution. 2015. August. P. 1-28.
- Brubaker R. Language, Religion and the Politics//Nations and Nationalism. 2013. Vol. 19, № 1. P. 1-20.
- Cardinal L. Language Regimes in Canada and in Quebec: From Competition to Collaboration? . URL: http://www.recode.info/wp-content/uploads/2013/02/Cardinal-Linda-2012-RECODE.pdf (дата обращения: 31.10.2016).
- Cardinal L., Sonntag S. State Traditions and Language Regimes. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2015. 282 p.
- Carla A. Living Apart in the Same Room: Analysis of the Management of Linguistic Diversity in Bolzano//Ethnopolitics. 2007. Vol. 6, № 2. P. 285-313.
- Gadelii K. Language Planning: Theory and Practice. Evaluation of Language Planning Cases Worldwide . URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118456eo.pdf (дата обращения: 31.10.2016).
- Horowitz D. Ethnic Group in Conflict. Berkley: University of California Press, 1985. 707 p.
- Kubota Y. State Traditions and Language Regimes//Current Issues in Language Planning. 2016. June. P. 1-5.
- Lado B. Linguistic Landscape as a Reflection of the linguistic and Ideological Conflict in the Valencian Community//International Journal of Multilingualism. 2011. Vol. 8, № 2. P. 135-150.
- Liu A. Standardizing Diversity: the Political Economy of Language Regimes Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015. 256 p.
- Pašalić-Kreso A. The War and Post-War Impact on the Educational System of Bosnia and Herzegovina//International Review of Education. 2009. Vol. 55, № 1-2. P. 67-88.
- Patten A. Political Theory and Language Policy//Political Theory. 2001. Vol. 29, № 5. P. 691-715.
- Pool J. Language Regimes and Political Regimes//Language Policy and Political Development/ed. by B. Weinstein. Norwood, New Jersey: Ablex, 1990.
- Williams C. Perfidious Hope: The Legislative Turn//Regional and Federal Studies. 2013. Vol. 23, № 1. P. 101-122.
- Wright S. What is Language? A Response to Philippe van Parijs//Critical Review of International Social and Political Philosophy. 2015. Vol. 18, № 2. P. 113-130.