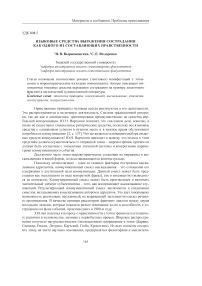Языковые средства выражения сострадания как одного из составляющих нравственности
Автор: Выржиковская Ирина Валентиновна, Федоренко Светлана Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена соотнесению речевых (текстовых) манифестаций с этическими и мировоззренческими взглядами коммуниканта. Авторы описывают имплицитные языковые средства выражения сострадания на примере диалогового фрагмента англоязычной художественной литературы.
Этические принципы, коммуникант, высказывание, стилистические приемы, экспрессивность
Короткий адрес: https://sciup.org/146281346
IDR: 146281346 | УДК: 808.5
Текст научной статьи Языковые средства выражения сострадания как одного из составляющих нравственности
Нравственные принципы человека всегда реализуются в его деятельности. Это распространяется и на речевую деятельность. Система традиционной риторики, так же как и лингвистики, ориентирована преимущественно на средства вербальной коммуникации. Ю. Н. Варзонин полагает, что «на самом деле, конечно, в языке не существуют специальные риторические средства, поскольку все языковые средства с одинаковым успехом в нужном месте и в нужное время обслуживают потребности коммуникации» [2, c. 137]. Что же является основанием выбора языковых средств коммуниканта? Ю.Н. Варзонин приходит к выводу, что подход к этим средствам должен осуществляться от отправной точки – мировоззрения, причем он должен быть согласован с элементами этической системы и конкретными параметрами коммуникативного события.
Достаточно часто этико-мировоззренческие установки не выражены в высказываниях в явной форме, но восстанавливаются контекстуально.
Поскольку целеполагание – один из главных факторов построения высказывания адресантом, коммуникативный смысл высказывания – это отношение его содержания к достигаемой цели коммуникации. Данный смысл может быть представлен как эксплицитно (в виде конкретной фразы), так и имплицитно (выводиться из контекста). Коммуникативный смысл может быть производным и включать значительный элемент субъективизма – того, как воспринимает высказывание слушающий. Результирующий коммуникативный смысл заключается в соединении смыслов, вкладываемых в высказывание автором и адресатом. Это дает говорящему возможность реализовать неуловимый, не выраженный эксплицитно смысл речевого произведения. В качестве примера рассмотрим фрагмент диалога между двумя молодыми людьми, которые показали разное понимание долга и способность к состраданию на фоне событий, произошедших в 1900-м году.
XIX век подошел к вопросу о нравственности с точки зрения ее постепенного развития в человечестве, начиная с первобытных времен. Широкое распространение получило натуралистическое (эволюционное) направление в этике (Дарвин, Спенсер, Гексли, Летурно, Каутский, Гюйо, Кропоткин). Из всех попыток построить этику на чисто научных основаниях, предпринятых философами и мыслителя- ми второй половины XIX столетия, наиболее интересной, по мнению П. А. Кропоткина, является система французского мыслителя Жана Мари Гюйо (1854–1888), к которой он пришел на основании анализа учения гедонистов вообще и, в частности, английского утилитаризма, в котором он видит отголоски морали эпикурейцев. Согласно этой этической теории, мораль коренится в природе человека. В основу своей этики Гюйо кладет понятие жизни в самом широком смысле слова. Этика, по мнению Гюйо, должна быть учением о средствах, при помощи которых достигается цель, которую ставит сама природа, – рост и развитие жизни. Гюйо стремился обосновать нравственность, с одной стороны, без всякого мистического сверхъестественного веления божества и внешнего принуждения и долга, а с другой стороны, хотел устранить из области нравственного и личный материальный интерес или стремление к счастью, на котором строили свою нравственность утилитаристы. «Основным недостатком утилитарной школы следует считать, что в человеческой деятельности она видела лишь стремление к удовольствию, а в самом удовольствии наименее существенную форму его. Есть два рода удовольствий: один соответствует особому и временному виду активности, – таково удовольствие от еды или питья; другой связан с самой сущностью активности, таково чувство удовольствия вследствие проявления жизненности, воли, мысли… Утилитаристы видели исключительно первый род удовольствия. Но люди не всегда совершают поступки ради определенного удовольствия, внешнего самому поступку; действуют также ради удовольствия быть активным, живут, чтобы жить, мыслят, чтобы мыслить» [3, c. 452].
П. А. Кропоткин после тщательного анализа развития учений о нравственности приходит к следующему выводу: «Почти все писавшие о нравственности старались свести ее к какому-нибудь одному началу: к внушению свыше, к прирожденному природному чувству или к разумно понятой личной или общественной выгоде. На деле же оказывается, что нравственность есть сложная система чувств и понятий, медленно развившихся и все далее развивающихся в человечестве. В ней надо различать по крайней мере три составных части: 1) инстинкт, т.е. унаследованную привычку общительности; 2) понятие нашего разума – справедливость и, наконец, 3) чувство, ободряемое разумом, которое можно было бы назвать самоотвержением или самопожертвованием, если бы оно не достигало наиболее полного своего выражения именно тогда, когда в нем нет ни пожертвования, ни самоотверженья, а проявляется высшее удовлетворение продуманных властных стремлений своей природы. Даже слово “великодушие” не совсем верно выражает это чувство, так как слово “великодушие” предполагает в человеке высокую самооценку своих поступков, тогда как именно такую оценку отвергает нравственный человек. И в этом истинная сила нравственного» [4, c. 278].
Несмотря на расхождения в понимании источника морали и содержания морального идеала, мыслители разных эпох сходятся во мнении, что одной из основных составляющих нравственности является сострадание. К этому выводу пришел А. Шопенгауэр, утверждавший, что «справедливость как подлинная свободная добродетель имеет свое начало в сострадании» [6, c. 343]. Об этом пишут Гюйо и Кропоткин, объясняющие, что происходит с нашим сочувствием горю других. «Мы чувствуем, особенно в раннем возрасте, что у нас больше сил, чем сколько их нужно нам для нашей личной жизни, и мы охотно отдаем эти силы на пользу другим. Из этого сознания избытка жизненной силы, стремящейся проявиться в действии, получается то, что обыкновенно называют самопожертвованием» [4, c. 248]. Кропоткин, тем не менее, не согласен с такими названиями этих действий, как самоотречение, самоотверженность или альтруизм. «Но все эти названия потому уже неверны, что человек, совершающий такие поступки, хотя они часто навлекают на него страдание физическое или даже нравственное, не променял бы этих страданий на скотское безучастие, а тем более на недостаток воли для выполнения того, что он считает нужным совершить» [Там же, c. 277]. Как полагает Гюйо, в таких случаях человеком руководит сознание своей силы и потребность дать ей приложение. «Притом, если чувство оправдывается разумом, оно уже не требует никакой другой санкции, никакого одобрения свыше и никакого обязательства так поступать, наложенного извне. Оно само уже есть обязательство, потому что в данный момент человек не может действовать иначе. Чувствовать свою силу и возможность сделать что-нибудь другому или людям вообще и знать вместе с тем, что такое действие оправдывается разумом, само по себе есть уже обязательство так поступать. Его мы и называем «долгом» [Там же, c. 276].
Рассматриваемый далее пример показывает, как в одной и той же ситуации два молодых человека, имеющих одинаковые возможности, совершенно по-разному чувствуют свои силы и сознают свой долг. Пример взят из фильма «Пикник у Висячей скалы», снятого по одноименному роману австралийской писательницы Джоан Линдсей.
14 февраля 1900 года студентки женского колледжа миссис Эплъярд отправились на пикник к Висячей скале, представляющей собой стометровый выступ вулканической породы. Четыре девушки отпросились прогуляться по скалам, и назад вернулась только одна. Позже среди камней затерялась их учительница математики. Поиски девушек не увенчались успехом, и их исчезновение так и осталось загадкой. Во время прогулки за девушками наблюдали двое молодых людей – джентльмен Майкл и кучер Альберт, состоящий в услужении у его дяди. Местный полицейский, как и все вокруг, подозревает, что девушки попали в беду и, скорее всего, погибли. Такого же мнения придерживается и Альберт. Майкл, тем не менее, не перестает думать о них и уговаривает Альберта продолжить поиски. Его не пугают зловещие скалы и опасности, которые могут встретиться на их пути. Разговор начинает Майкл:
Michael. I wake up every night in a cold sweat. Just wondering if they are still alive.
Albert. Yeah, well, the way I look at it is this: if the bloody cop and the bloody abo tracker and the bloody dog can’t find’em, well, no one can. People have been bushed before today, and as far as I’m concerned, that’s the stone end of it.
Michael. Well, it’s not the stone end of it as far as I’m concerned. They may be out there dying of thirst on - - on that infernal rock and… you and I are sitting here drinking cold bloody beer.
Albert. That’s where you and me’s different. If you want my advice, the sooner you forget the whole thing, the better.
Michael. Well, I can’t forget it, and I never will. I want to go back on the rock. To look for them. Will you come with me?
Albert. Beautiful birds, them swans. A week in the bush. They’d be dead by now. Michael. Then I’ll go alone [5].
Диалог между Майклом и Альбертом является примером фамильярно-разговорного стиля. Большую стилеобразующую роль играет компрессия, которая в данном примере проявляется на всех уровнях. Употребление усеченных форм (фонетическая редукция вспомогательных глаголов): I’m, that’s, it’s, me’s, They’d, I’ll; сокращенная отрицательная форма can’t; фонетическая редукция местоимения find’em. На уровне лексики компрессия проявляется в употреблении аббревиатуры abo вместо aborigine в словосочетании abo tracker. Синтаксическая компрессия выражена эллипсисом: Just wondering if they are still alive. To look for them. Beautiful birds, them swans. A week in the bush. Пропущенные элементы в предложениях Just wondering if they are still alive. To look for them легко восстанавливаются из контекста.
Майкл всерьез обеспокоен судьбой девушек. Он все время думает о том, что они, возможно, еще живы. Эти мысли заставляют его просыпаться каждую ночь в холодном поту. Эпитет in a cold sweat придает экспрессивность и эмоциональность высказыванию Майкла, так как передает его сильное беспокойство и волнение, граничащее с ужасом и страхом перед создавшейся ситуацией. Именно такое значение разговорного выражения to be in a cold sweat дает словарь [1, c. 581]. Невзирая на опасность, он полон решимости идти на поиски девушек, о чем и заявляет в предложении I want to go back on the rock. Следующее за ним неполное предложение To look for theт экспрессивно, поскольку отражает восприятие и образное видение мира Майкла. Его волнение предается также с помощью умолчания и паузы в следующем высказывании: They may be out there dying of thirst on - - on that infernal rock and… you and I are sitting here drinking cold bloody beer. Умолчание, выраженное тире, основано на том, что Майкл не хочет называть вещи своими именами. В данном случае это – адская скала, за которой скрылась навсегда девушка, в которую он влюблен. Эпитет infernal , усиленный указательным местоимением that в словосочетании on that infernal rock, передает отчаяние Майкла и угрызения совести по поводу их бездействия. Эмоциональная пауза, фикисрованная многоточием, отражает нервозность и возмущение Майкла в ответ на безразличие и благоразумие Альберта. Все высказывание построено на антитезе: положение девушек, которые, вероятно, погибают от жажды, противопоставляется праздному времяпрепровождению юношей, наслаждающихся прохладным пивом.
Образность достигается эпитетом cold bloody beer , содержащим эмоционально-усилительное прилагательное bloody, в коннотации которого – эмоциональный, оценочный, экспрессивный и стилистический компоненты. В данном высказывании Майкла грубо-разговорное слово bloody усиливает отрицательный характер эмоциональности, связанной с нетерпением и упреком. То же слово звучит в следующем высказывании Альберта: Yeah, well, the way I look at it is this: if the bloody cop and the bloody abo tracker and the bloody dog can’t find’em, well, no one can. Тем не менее здесь это слово служит для усиления эмоций иного характера. Эмоциональность и экспрессивность этого слова поддерживается скоплением стилистических приемов, выполняющих общую функцию. Высказывая свою точку зрения, Альберт помещает на первое место эмоционально доминирующий элемент, нарушая, таким образом, обычный порядок слов в предложении. Характерная для разговорной речи избыточность находит здесь выражение в так называемых “time-fillers” Yeah, well. Синтаксическая конвергенция в этом предложении осложняется повтором, параллельными конструкциями и полисиндетоном. Синтаксическая конвергенция создана однородными подлежащими the bloody cop and the bloody abo tracker and the bloody dog , в которых повтор фраз the bloody и анафорический повтор союза and фиксирует внимание на следующих за ним существительных, увеличивая тем самым не только экспрессивность, но и ритмичность.
Отрицательные конструкции передают волнение, колебание и досаду Альберта. Сознавая безрассудность принятого Майклом решения отправиться на поиски девушек, он колеблется и пытается убедить в своей правоте не столько его, сколько себя самого. Метафорический эпитет the stone end , который звучит в завершающем данную реплику предложении and as far as I’m concerned, that’s the stone end of it, подчеркивает категоричность принятого Альбертом решения снять с себя всякую ответственность за судьбу девушек. Диалог развивает анадиплозис
Well, it’s not the stone end of it as far as I’m concerned , содержащий сообщение, опровергающее предыдущее. Подхват в данном примере показывает связь между двумя идеями и усиливает не только экспрессивность, но и ритмичность. Номинативные односоставные предложения Beautiful birds, them swans. A week in the bush имеют большой экспрессивный потенциал, так как существительные birds и swans , являющиеся главными членами первого предложения, совмещают в себе образ предмета и идею его существования. Воспоминания Майкла о Миранде, одной из пропавших девушек, сопровождает образ плывущего по саду лебедя: пригрезившаяся ему девушка пропадает за кустом – и оттуда выплывает гордая белоснежная птица. Второе предложение служит для описания обстановки и способствует динамичности повествования. Тот факт, что девушки провели целую неделю в лесу, дает Альберту основания предположить, что их давно нет в живых.
Используемые синтаксические конструкции своей лаконичностью отражают строй мышления Альберта, связаны с его характером и особенностями его восприятия. Альберт пытается отговорить Майкла продолжить поиски пропавших девушек, так как не видит смысла в том, чтобы рисковать жизнью: они не первые, кто заблудился в этих кустах. Он даже готов дать Майклу совет как можно скорее забыть о случившемся. Употребление сравнительной конструкции the sooner you forget the whole thing, the better сообщает высказыванию большую экспрессивность. Но именно в этом-то и заключается разница между ними! Альберт открыто заявляет об этом Майклу с помощью эмфатической конструкции That’s where you and me’s different .
Может быть, именно об этой разнице говорит А. Шопенгауэр, объясняя различие этических импульсов, которые имеются у каждого человека. Совершенно очевидно, что Майклом руководит именно то чувство долга, о котором пишет М. Гюйо в своем учении о нравственности. Это находит выражение в следующем высказывании Майкла: Well, I can’t forget it, and I never will. Отрицание делает эту фразу более эмоциональной и экспрессивной. Майкл говорит Альберту о том, что он не может забыть о случившемся и никогда не сможет. На уровне морфологии экспрессивность выражена с помощью отрицательной формы модального глагола can’t и отрицательного наречия never . Употребление вспомогательного глагола will с местоимением первого лица делает фразу еще более эмоциональной и выражает волеизъявление говорящего и его решимость поступить именно так, а не иначе. «Долг, – говорит Гюйо, – есть сознание внутренней мощи, способность произвести нечто с наибольшей силой. Чувствовать себя способным развить наибольшую силу при совершении известного деяния – значит признать себя обязанным совершить это деяние» (цит. по: [4, c. 248]). Однако не все обладают этим сознанием избытка жизненной силы, которая стремится проявиться в действии, и не все одинаково готовы к самопожертвованию, которое проистекает из этого сознания.
Завершает рассматриваемый пример фраза, произнесенная Майклом в ответ на довольно расплывчатый ответ Альберта на его просьбу отправиться на поиски девушек вместе: Then I’ll go alone. Майкл принимает решение идти один, то есть бороться и пренебрегать опасностью. Местоимение первого лица в данном случае, казалось бы, изобличает эгоизм говорящего. Но это эгоизм или альтруизм? П.А. Кропоткин, пытаясь разобраться в противоречии чувств эгоистических и альтруистических, приходит к выводу, что в действительности этого противоречия не существует. «Во все времена были ограниченные люди; во все времена были глупцы. Но никогда, ни в какую эпоху истории, ни даже геологии, благо индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны, и те, которые лучше других это понимали, всегда жили наи- более полной жизнью» [Там же, c. 315]. Для убежденного человека не существует компромиссов между эгоистическими и альтруистическими чувствами, «и человек убежденный потому и отвергает компромисс, который позволил бы ему спокойно дремать в ожидании, пока все само собой изменится к лучшему» [Там же, c. 316].
Таким образом, разные взгляды на необходимость отправиться на поиски затерявшихся в скалах девушек находят имплицитное выражение в их высказываниях.
Список литературы Языковые средства выражения сострадания как одного из составляющих нравственности
- Большой англо-русский словарь: в 2 т. Т. 2. M-Z. М.: Рус. яз. 1979. 864 с.
- Варзонин. Ю. Н. Этические основания риторики. Тверь, 2001. 205 с.
- Гюйо М. История и критика современных английских учений о нравственности.
- СПб.: Тип. И. М. Комелова, 1898. 458 с.
- Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. М.: Политиздат, 1991. 496 с.
- Пикник у Висячей скалы: художественный фильм URL: https://www.ivi.ru/watch/213583 (дата обращения: 17.02.209).
- Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. 512 с.