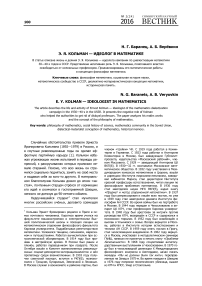Э. Я. Кольман - идеолог в математике
Автор: Баранец Наталья Григорьевна, Вервкин Андрей Борисович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье описана жизнь и деяния Э. Я. Кольмана - идеолога кампании по диалектизации математики 30-40-х годов в СССР. Представлена негативная роль Э. Я. Кольмана, помогавшего властям освободиться от нелояльных профессоров. Проанализированы его математические работы и концепция философии математики.
Философия математики, социальная история науки, математическое сообщество в ссср, диалектико-материалистическая концепция математики, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/14114324
IDR: 14114324
Текст научной статьи Э. Я. Кольман - идеолог в математике
Случайные обстоятельства привели Эрнеста Яромировича Кольмана (1892—1979) в Россию, и в смутные революционные годы он сделал эффектную партийную карьеру [1]. Кольман избежал угрожающих жизни испытаний в периоды репрессий, к раскручиванию которых приложил немало стараний. Похоже, что всю жизнь он стремился социально подняться, занять не своё место и выдавал себя за кого-то другого. В материальном благополучии Кольман дожил до эпохи «застоя», почтенным старцем отрёкся от кормивших его идей и скончался в гостеприимной Швеции, немного не дотянув до 90-летнего юбилея.
Недоучившийся студент1 стал мучителем многих российских учёных, деловито совмещая членом «тройки» ЧК. С 1919 года работал в Коминтерне в Германии. С 1923 года работал в Агитпропе Коминтерна в Москве, был заведующим Губполит-просвета, издательства «Московский рабочий», членом Моссовета. С 1929 — заведующий Агитпропа ЦК ВКП(б). В 1930—32 гг. возглавлял Московское математическое общество. В 1932 году участвовал в Международном конгрессе математиков в Цюрихе, вошёл в дирекцию Института марксизма-ленинизма, заведовал кабинетом Маркса, стал директором Института красной профессуры естествознания, читал лекции по философским проблемам математики. В 1936 году стал завотделом науки МГК ВКП(б), издал книгу «Предмет и метод современной математики». В 1937 году был репрессирован и лишён всех постов, но уже в 1939 году стал завотделом диамата Института философии АН СССР. Во время войны был на партработе в Москве. В 1944 году передан в Чехословакию в аппарат ЦК КПЧ, стал профессором Карлова университета. В 1948 году был арестован за интриги против руководства КПЧ, возвращён в СССР и содержался в московских тюрьмах. В 1952 году был освобождён и выслан в Ульяновск к семье. Вскоре вернулся в Москву, работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР. В 1959 году опять послан в Прагу, стал чехословацким академиком. В 1962 году вернулся в Москву, участвовал в методологическом семинаре ГАИШ, написал не принятую в печать книгу «Проблема бесконечности». В 1968 году сочувствовал антигосударственным выступлениям в Чехословакии. В 1970 году был в чехословацкой делегации X Международного философского конгресса в Амстердаме, начал писать мемуары «Мы не должны были так жить», переправленные на Запад в 1975-м. Во время поездки в Швецию в 1976 году попросил политического убежища, вышел из КПЧ и КПСС. Умер в Стокгольме.
партработу с преподаванием и участием в идеологических кампаниях. В 1930—32 гг. ему выпало возглавлять Московское математическое общество. Он руководил Институтом красной профессуры естествознания с 1932 года до закрытия заведения в 1936 году. В 1934 году Кольман получил степень доктора философских наук, затем звание профессора математики. В 1939 году стал старшим научным сотрудником в Институте философии АН, завотделом диалектического материализма, преподавал логику в московском юридическом институте и в педагогическом институте, вёл математические курсы в Энергетическом институте им. Молотова. Войдя в партийную номенклатуру, Кольман легко менял места работы, не удаляясь от структур, связанных с управлением наукой и образованием.
Было бы несправедливо утверждать, что Кольман не имел математических работ. Одну из них хранит российский ресурс Math-Net.Ru [1]. Статья по элементарной комбинаторной топологии вышла в престижном журнале Московского математического общества. В ней нет библиографических ссылок, что в тот период было нормально. Упоминаний её в иных статьях обнаружить не удалось. Для неспециалиста в узкой теме исследования это усложняет оценку её полезности. Первый параграф отдан определениям, но сформулированы они нематематически расплывчато, иллюстрации отсутствуют. Поэтому неясна постановка задачи, трудно оценить степень достоверности её решения. Коль-ман упоминает, что применяемый им метод использовался Листингом1. Возможно, точные определения есть в одной из его неназванных работ, но этот вопрос заслуживает отдельного изучения. Вторую математическую работу Кольмана понять легче, тем более что в ней отсутствуют какие-либо формулы и теоремы [2]. Статья представлена к публикации академиком Лысенко и направлена на опровержение известной работы [3] академика А. Н. Колмогоро-ва2. Для скорого достижения цели Кольман с ходу заявляет, что Колмогоров «в значительной мере следует выводам Мизеса». Затем он приводит ряд выдержек, которых «более чем достаточно, чтобы убедиться в том, что Мизес — махист «чистой линии» и что высказываемые им взгляды на отношение теории к действительности слово в слово совпадают с теми, которые разгромил Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». Следовать методологическим взглядам Мизеса не только в значительной, но и в какой бы то ни было мере никому рекомендовать нельзя».
Отметим, что в работе Колмогорова Рихард Мизес не упоминается. В этом не было необходимости. Колмогоров имел достаточную базу собственных разработок по теории вероятностей, чтобы заимствовать их у немецкого учёного, так и не завершившего свои статистические и вероятностные исследования. Кольман ввёл Мизеса вспомогательной фигурой, позволившей перевести обсуждение от вопросов статистических или биологических, в которых Кольман не разбирался, к истолкованиям мнений Ленина и Энгельса по надуманным поводам, в чём Кольман считал себя мастером. Этот приём из набора картёжных шулеров характеризует методологические принципы научной дискуссии многих «материалистов-диалектиков». Далее Кольман развивает свою гипотезу об идейной подчинённости Колмогорова махисту Мизесу: «Вполне понятно, что тот, кто вместе с Мизесом полагает, будто теория вероятностей есть теория, проверяемая только законами мышления, кто считает, что научная теория играет по отношению к действительности (называемой махистами миром «опыта») роль одного лишь описания, не в состоянии правильно поставить, а тем более решить вопрос ческим течением Гильберта и интуиционистским Брауэра и Вейля. В 1925 году доказал, что классическая логика погружается в интуиционистскую, и поэтому интуиционизм наследует все возможные противоречия формализма и в этом отношении не имеет никаких преимуществ. Внёс существенный вклад в теорию функций, теорию вероятностей, теорию стационарных случайных процессов, теорию гамильтоновых систем и другие области математики. Построил свою версию аксиоматического обоснования теории вероятностей (1933). В 1930 году стал профессором МГУ, в 1933—39 гг. был ректором Института математики и механики МГУ, многие годы руководил кафедрой теории вероятностей и лабораторией статистических методов. В 1935 году получил степень доктора физико-математических наук, в 1939 году был избран членом АН СССР. В 1941 году Колмогорову и Хинчину за работы по теории вероятностей была присуждена Государственная (Сталинская) премия. Был президентом Московского математического общества (1964— 1966, 1973—1985).
о границах применимости теории вероятностей, о границах её познавательного значения для отдельной науки, например, для биологии».
Мнимое разоблачение ошибки Колмогорова вскоре завершается: «Таким образом, резюмируя, необходимо ещё раз подчеркнуть, что поскольку менделевские законы являются законами биологическими, никакое статистико-математическое доказательство (или опровержение) дать им невозможно. Доказать или опровергнуть закон Менделя как биологическую универсальную закономерность можно только на почве самой биологии, не отбрасывая громадный накопленный цитологический, гистологический, биохимический материал, материал по механике развития и т. д., а критически перерабатывая его, не боясь затронуть самые основы генетики, если этого требуют упрямые факты. Извлечённый из определенной группы случаев наследования менделевский закон расщепления признаков является лишь статистическим правилом, а не универсальным биологическим законом, причем правилом, получение которого существенным образом может зависеть от выбранной нами классификации рассматриваемых признаков. Наконец, нельзя забывать, что статистика в применении к биологии должна занимать лишь подчинённое место. Как этому учит Энгельс и Ленин, чем выше изучаемая форма движения, тем труднее применение к ней математического метода, тем менее эффективным для познания действительности он оказывается. Пытаться по всем этим причинам статистикоматематически подтверждать или опровергать менделевские законы явно безнадежно».
Мнимый ревнитель пролетарской истины Кольман специализировался в огульных нападках на известных учёных. Он регулярно запускал обвинительные статьи в партийные газеты и журналы. Так, в статье с доносным заголовком «Вредительство в науке» он зацепил О. Ю. Шмид-та1: «Математической мистификации науки вре- дителями значительную услугу оказывают появляющиеся порою из наших собственных рядов попытки ненаучного, антимарксистского применения математического метода. Так, например, пытаются всерьёз вывести закон развития производительных сил САСШ тем, что отождествляют производительные силы с техникой, мерилом прогресса которой принимают количество запатентованных изобретений, на основании чего математически выводят зависимость между «техникой» и временем, выводят законы движения индекса цен, зарплаты, нормы прибыли и т. д. Такие грубо-эмпирические упражнения, затрагивающие лишь поверхность явлений, действуют ободряюще на тех, кто «математизирует» науку с вредительской целью. Ведь каждая наша ошибка с жадностью подхватывается классовым врагом. Так, например, Н. В. Игнатьев спешит зафиксировать трогательное единство мысли главы буржуазной американской политико-экономической школы и учёного-коммуниста, не упуская в то же время случая выразить глубокую благодарность Кондратьеву, как редактору сборника, содержащего игнатьевскую статью со следующей тирадой «Количественная теория денег, находившая подтверждение и в эмпирических данных (назову здесь хотя бы работу проф. Фишера, а у нас работу О. Шмидта для периода эмиссионного хозяйства), вызывает простотой своих формулировок большой соблазн к статистической моей проверке» [4].
ковского лесотехнического института (1920—1923), затем Московского университета (1923—1951), где в 1929 году организовал на мехмате кафедру Высшей алгебры, которой руководил до 1949 года. Был основателем московской алгебраической школы, автором новой космогонической гипотезы об образовании Земли и планет Солнечной системы. В 1924—30 гг. преподавал в Коммунистической академии. Участвовал в географических исследованиях, принесших ему всемирную известность и, возможно, защитивших в репрессиях 1930-х: в 1927 году ходил в Памирскую экспедицию; в 1929, 1930, 1932, 1933, 1936 гг. возглавлял арктические экспедиции. В 1930 году был назначен директором Арктического института, в 1932 году стал начальником Главсевморпути. В 1933 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1935 — академиком, в 1939—42 был вице-президентом Академии наук. В 1937—49 гг. возглавлял Институт теоретической геофизики. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1937 года за руководство организацией дрейфующей станции «Северный полюс-1» О. Ю. Шмидту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда». Правительство СССР наградило его тремя орденами Ленина (1932, 1937, 1953), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1936, 1945), орденом Красной Звезды (1934) и медалями.
Кольман громил старых профессоров и косвенно Н. Н. Лузина1, которого обвинял в незнании диалектики и не только. Темой его выступлений была «аполитичность» Шмидта и «вредительство» Егорова2. Дадим ещё один пример риторики Кольмана. Напомним, что это был 1931 год — шёл первый вал сталинских репрессий и «чисток» государственных учреждений: «Подмена большевистской политики в науке, подмена борьбы за партийность науки либерализмом тем более преступна, что носителями реакционных теорий являются маститые профессора, как махист Френкель в физике, виталист Гуревич и Берг в биологии, что Савич в психологии, Кольцов в евгенике, Вернадский в геологии, Егоров и Богомолов в математике «выводят» каждый из своей науки реакционнейшие социальные теории. Разве нехарактерно — если взять лишь события последнего месяца — что признанного вождя реакционной московской математической школы, ещё в прошлом году директора математического института, состоявшего церковным старостой, но не желавшего быть членом профсоюза, проф. Егорова московское математическое общество упорно не желало исключить из своего состава. Когда же Егоров заявил, что «не что-либо другое, а навязывание стандартного мировоззрения учёным, является подлинным вредительством», докладчик-коммунист не только сам не дал отпора, но в заключительном слове отвёл предложение сделать из выступления Егорова организационные выводы, объяснив всё «недоразумением». Такова политика некоторых коммунистов, проводимая ими в реакционнейшей профессорской среде, в среде хранителей традиций Цингера, Бугаева, Некрасова, разрабатывавших теорию вероятностей, науку о числе и анализ для доказательства незыблемости «православия, самодержавия, народности», для подкрепления философии Лопатина в среде тех людей, которые вполне последовательно на не- давнем съезде отказывались послать приветствие XVI съезду» [5].
В 1936 году Кольман опубликовал объёмную работу «Предмет и метод современной математики» [6], желая дать в ней канон математики и её истории. Книга должна была стать основой понимания философии математики. Ведь автор опирался на сочинение Энгельса «Диалектика природы» , впервые опубликованное в 1929 году, и на «Математические рукописи» Маркса, обнаруженные Кольманом в сейфе Рязанова, чьё место заведующего кабинетом Маркса он занял в ИМЭЛ. Кольман ознакомился с записками Маркса ещё до их подготовки к публикации группой историков математики под руководством Яновской. В своей книге Кольман синтезировал материалы читанных им в Московском университете курсов по историческим и философским проблемам математики. Историю дисциплины он изложил широко, но без продуманной системы. В столь же хаотическом изложении математических идей и понятий содержались серьёзные ошибки, отчасти отмеченные в рецензии известных математиков А. О. Гель-фонда и Л. Г. Шнирельмана. Члены-корреспон денты Академии наук дали на сочинение Коль-мана безжалостное заключение: «в книге неверно передан ряд важнейших вещей из самых различных отделов математики. Трудно указать такую область математики, которая была бы корректно освещена в разбираемой книге. Общие рассуждения о математике в целом отличаются туманностью и не дают ничего ни уму, ни сердцу» [7].
Однако в замысел книги легла самостоятельная методологическая идея — представить историю математики в развитии её абстракций (числа и фигуры, переменных алгебры и анализа, их операций и функций). Книга начинается с определения математики, претендующего стать стандартом для советской науки: «Определение Энгельса гласит, что математика — это наука, имеющая своим предметом пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Из этого определения ясно, что математика не может считаться только наукой о природе или только наукой общественной, ибо пространственные формы и количественные отношения присущи как естественным, так и общественным процессам» [8].
Последняя глава книги Кольмана наиболее идеологизирована. Она посвящена кризису оснований математики и описанию основных философских программ математики — логицизма, формализма, конвенционализма, интуициониз- ма, эмпиризма, эффективизма, отнесённых к идеализму и противостоящих истинно верной философии диалектического материализма. Суть философских направлений математики Кольман изложил умело, мастерски подкрепив избранные идеи цитатами из сочинений основоположников течений, показывая своё понимание сложности проблем. Оценки Кольмана демонстративно пристрастны и критичны. Так, одобрив Пуанкаре за его критику логицизма и формализма, Кольман обнаруживает у него «двойное нутро философии конвенционализма». Кольман осудил Пуанкаре за мнение о двух неразделимых источниках аксиом — обобщённом опыте и первичных понятиях, принятых научным сообществом и влияющих на истолкование опытов. Кольман порицает все определения математики, кроме одного энгельсова, объявляя поверхностными мыслителями всех математиков, их придерживающихся: «Определение Пуанкаре математики как «искусства давать одно и то же имя различным вещам», как две капли воды, похоже на определение Рассела, согласно которому «математика — это совокупность выводов, могущих быть применёнными к чему бы то ни было». Именно благодаря этому своему философскому оппортунизму конвенционализм, «философия удобства», оказался наиболее «удобным» для многочисленного слоя математиков, знакомых с философией лишь крайне поверхностно, именно поэтому он стал наиболее популярным течением современной философии математики, даже до сих пор оказывающим кое-какое влияние на образ мышления некоторых из советских математиков» [9].
Он настойчиво преследовал ярких математиков, в особенности Лузина: «Известно, что так называемая «Московская математическая школа» — Цингер, Бугаев, Некрасов — проповедовала, будто «арифмология» (теория чисел и непрерывных функций) обосновывает индивидуализм, анализ с его непрерывностью направлен против революционных идей, теория вероятностей подтверждает беспричинность явлений и свободу воли, а вся математика в целом находится в соответствии с принципами философии Лопатина — православием, самодержавием, народностью. Этот черносотенный образ мыслей был полностью донесён до наших дней одним из «столпов» этой школы Лузиным, который придал ему более «современную» фашистскую окраску. Вместе с тем Лузин «исправил» эту идеологию в деталях, заменив открытую пропо- ведь православия более тонким дурманом — субъективным идеализмом и солипсизмом» [10].
Пропагандируемая Кольманом диалектиза-ция математики осталась нереализованным сервильным проектом: «С точки зрения марксизма-ленинизма обоснование математики не сводится к замене логической, формалистической, интуиционистской и тому подобных систем аксиом, определений и т. д. какой-то другой диалектико-материалистической системой. Оно не сводится также к несравненно более сложному труду — к построению марксистской истории математики. Оно означает вместе с тем переделку всей математики, регулирование её развития на плановых началах, исходящих из теоретического осмысления практики строительства социализма. Усвоение, критический пересмотр и коренная переработка достижений буржуазной науки — эта задача, поставленная для нашей эпохи Лениным и Сталиным, целиком относится и к математике» [11].
***
Отечественное математическое сообщество почти отправило в пучину забвения персону Э. Я. Кольмана и стёрло следы его дел. Это проявление защитного механизма вытеснения «неприятного» воспоминания о трагическом периоде жизни советских математиков. Но в исторической памяти должны оставаться не только «герои», но и «антигерои», чей пример становится предостережением для новых поколений учёных.
-
1. Кольман Э . О разбиении круга // Математический сб. 1937. Т. 2(44). Вып. 1. С. 65—77.
-
2. Кольман Э . Возможно ли статистико-математически доказать или опровергнуть менделизм? // Докл. Акад. наук СССР. 1940. Т. 28. Вып. 9. С. 836—840.
-
3. Колмогоров А. Н . Об одном новом подтверждении законов Менделя // Докл. Акад. наук СССР. 1940. Т. 27. Вып. 1. С. 38—42.
-
4. Кольман Э . Вредительство в науке // Большевик. 1931. № 2. С. 76—77.
-
5. Там же. С. 78—79.
-
6. Кольман Э . Предмет и метод современной математики. М. : ГСЭИ, 1936. 316 с.
-
7. Гельфонд А. О., Шнирельман Л. Г. Э. Кольман, «Предмет и метод современной математики» // Успехи математических наук. 1938. № 4. С. 336.
-
8. Кольман Э . Предмет и метод современной математики. М. : ГСЭИ, 1936. С. 10.
-
9. Там же. С. 274.
-
10. Там же. С. 290.
-
11. Там же. С. 302.
Список литературы Э. Я. Кольман - идеолог в математике
- Кольман Э. О разбиении круга//Математический сб. 1937. Т. 2(44). Вып. 1. С. 65-77.
- Кольман Э. Возможно ли статистико-математически доказать или опровергнуть менделизм?//Докл. Акад. наук СССР. 1940. Т. 28. Вып. 9. С. 836-840.
- Колмогоров А. Н. Об одном новом подтверждении законов Менделя//Докл. Акад. наук СССР. 1940. Т. 27. Вып. 1. С. 38-42.
- Кольман Э. Вредительство в науке//Большевик. 1931. № 2. С. 76-77.
- Кольман Э. Предмет и метод современной математики. М.: ГСЭИ, 1936. 316 с.
- Гельфонд А. О., Шнирельман Л. Г Э. Кольман, «Предмет и метод современной математики»//Успехи математических наук. 1938. № 4. С. 336.
- Кольман Э. Предмет и метод современной математики. М.: ГСЭИ, 1936. С. 10.