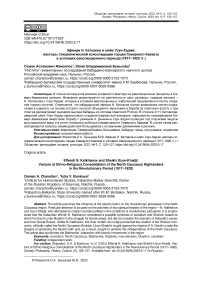Эфенди Н. Катханов и шейх Узун-Хаджи: векторы этнорелигиозной консолидации горцев Северного Кавказа в условиях революционного периода (1917-1920 гг.)
Автор: Жанситов О.А., Бунькова Ю.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется влияние исламского фактора на революционные процессы в Северо-Кавказском регионе. Внимание акцентируется на деятельности двух духовных лидеров региона - Н. Катханова и Узун-Хаджи, которые в условиях революционных турбуленций предприняли попытку создания горских политий. Отмечается, что кабардинский эфенди Н. Катханов считал возможным синтез социализма и шариата, на основе которого пытался объединить мусульман в борьбе за советскую власть и при этом не рассматривал сценария выхода Кабарды из состава советской России. В отличие от Н. Катханова, аварский шейх Узун-Хаджи провозгласил создание Шариатской монархии, официально называвшейся Северо-Кавказским эмирством. Борьбу с режимом А. Деникина Узун-Хаджи проводил под лозунгами защиты мусульманской веры и в итоге стремился добиться независимости Северного Кавказа. В статье также рассматриваются вопросы взаимодействия большевиков с исламскими движениями в регионе.
Революция, северный кавказ, большевики, кабарда, горцы, мусульмане, социализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149143474
IDR: 149143474 | УДК: 94(470.6)“1917/1920” | DOI: 10.24158/fik.2023.9.17
Текст научной статьи Эфенди Н. Катханов и шейх Узун-Хаджи: векторы этнорелигиозной консолидации горцев Северного Кавказа в условиях революционного периода (1917-1920 гг.)
,
Специфика революционного периода на Северном Кавказе во многом определялась характерными для этой российской окраины полиэтничностью и многоконфессиональностью. После свержения монархии в феврале 1917 г., исламский фактор выступил, с одной стороны, идеологической платформой для этнополитической мобилизации коренного населения в условиях революционных турбуленций, с другой, – вынуждал общероссийских политических акторов (большевиков, белых) корректировать свою стратегию утверждения в регионе с учетом его религиозной специфики.
Вопросы участия российских мусульман в событиях революционного периода, несомненно, оказались в поле исследовательского внимания. Основные тенденции в работах советских и западных историков, обращавшихся к указанной проблематике, обобщил в своих исследованиях С. Исхаков. В его работах также нашли отражение не затронутые ранее аспекты: восприятие мусульманами идеи социального равенства, внутренние проблемы приверженцев ислама, радикализация части мусульман в условиях революционной смуты и др. (Исхаков, 2004; 2018).
Весомый вклад в исследование указанной проблематики внесли авторы 20–30-х гг. прошлого столетия. Н. Янчевский считал исламский фактор одним из триггеров революционных процессов на Северном Кавказе (Янчевский, 1927: 187).
Наметившаяся в этот период тенденция изучать участие горцев в революции в контексте национальной и религиозной проблематики была подвергнута критике Н. Буркиным, который отмечал, что авторы допускают «игнорирование классовой борьбы, приукрашивание своеобразной чистоты народного быта и затушевывание реакционной роли религии» (Буркин, 1931: 56).
Критичные замечания Н. Буркина отразились на дальнейших исследованиях революционного периода в регионе. Их авторы, сосредоточившись на вопросах классовой дифференциации горцев, нивелировали роль исламского фактора, что в итоге привело к построению упрощенной картины рассматриваемых вопросов (Гугов, 1975: 5).
В постсоветских исследованиях прослеживаются попытки отказаться от подобного упрощения. Не снижая значимости социально-экономических факторов, определявших характер протекания революционных процессов, их авторы сосредотачиваются на конфессиональной и социокультурной специфике региона (Магомедов, 1997). По мнению М.А. Текуевой, роль ислама как идеологического знамени в антиколониальном движении на Северном Кавказе в 1790–1860-х гг. XIX в. была сохранена и в годы революции, а также гражданской войны (Текуева, 2001).
К исследованию затронутой в статье проблематики привлечен ряд источников, включающих как документальные материалы, так и мемуары непосредственных участников рассматриваемых событий. Интерес представляют стенограммы заседаний Нальчикского окружного Народного совета и протоколы конференций политических деятелей Северного Кавказа в Тифлисе, в которых, в частности, фиксируются мнения и реплики ключевых фигур регионального революционного процесса, что позволяет увидеть мотивацию их действий и более рельефно выстроить событийную канву изучаемого периода. Информативностью отличаются мемуарные источники. Воспоминания большевистского деятеля Г. Русакова издавались еще в советское время, однако до читателя они дошли в сокращенном и цензурированном виде. В данном исследовании мы ссылаемся на обнаруженный в архивных фондах оригинальный авторский текст, в котором, в частности, отражена реальная картина складывания альянса большевиков с исламским движением в Кабарде.
В настоящей статье мы рассмотрим в компаративистском ключе влияние исламского фактора на процессы этнополитической мобилизации, которые связаны с именами влиятельных духовных деятелей региона – кабардинским эфенди Н. Катхановым и аварским шейхом Узун-Хаджи. Такой подход к проблеме отличается новизной, поскольку позволяет более детально отразить специфику исламского фактора и вариативность его проявлений в контексте революционных процессов на Северном Кавказе.
Н. Катханов являлся рядовым представителем национальной духовной интеллигенции Ка-барды. После Февральской революции 1917 г. он становится одной из ключевых фигур общественно-политической жизни региона. Провозглашение советской власти в Терской области 4 марта 1918 г. было с энтузиазмом воспринято Н. Катхановым, который пытался объединить своих сторонников под лозунгом «Да здравствует советская власть и шариат». Как видно из его содержания, Н. Катханов считал возможным синтез политических пристрастий социалистов и исламской идеологии. Противоречие, имевшееся в вопросах частной собственности (шариат признавал ее, а социализм, напротив, отвергал), было разрешено путем свободной трактовки религиозных текстов. Революционное духовенство Кабарды разъясняло своей пастве, что, по шариату, крестьяне имеют право на помещичьи земли, поскольку земля должна принадлежать тем, кто ее «воскрешает», то есть трудится на ней. Таким образом, Н. Катханов нашел не противоречащее шариату обоснование, допускающее экспроприацию земельных участков у частновладельцев Кабарды в пользу малоземельных крестьян, которые могли распоряжаться ими на коллективных началах.
Выстроив программу революционных социальных преобразований под исламскими знаменами, Н. Катханов начал восхождение на политический олимп, чему в определенной мере способствовало провозглашение 21 марта 1918 г. в Кабарде советской власти. Однако он не нашел поддержки у большинства местного населения и не смог занять высоких постов в системе власти (Текуева, 2003). Одной из причин этого было то, что значительная часть кабардинского социума не согласилась с потерей своих экономических позиций, апеллируя при этом к тем же законам шариата о неприкосновенности и священности частной собственности.
Для Н. Катханова стало очевидным, что с опорой лишь на своих сторонников в Кабарде ему не удастся приобрести существенный политический вес в регионе, поэтому он задумался о поиске союзников за пределами Кабарды. Реализации его стремлений способствовало дальнейшее развитие революционной ситуации. В середине августа 1918 г. к власти в советских административных структурах Кабарды пришли представители национальной интеллигенции, среди которых заметно выделялись Т. Шакманов и Б. Карачаев, имевшие опыт работы еще в дореволюционной администрации. Признавая советскую власть, эти деятели в то же время подвергли ревизии ряд ее решений, противоречащих национальным интересам кабардинцев в условиях политического кризиса. Во-первых, они отменили постановление Чрезвычайной комиссии Терской области о передаче части территории Кабарды малоземельным горским народам. Во-вторых, вооруженные отряды кабардинцев, сформированные большевиками для участия в борьбе с казаками, поднявшими на Тереке антисоветское восстание, было решено вернуть в Кабарду, которая была объявлена «нейтральной» стороной в разгоравшейся в регионе гражданской войне. Эти решения нового кабардинского руководства срывали планы большевиков по скорейшему утверждению советской власти в Терской области.
Чтобы вернуть Кабарду в русло революционной борьбы, большевики решают создать коалицию с местным исламским движением, под флагами которого предполагалось «объединить бедноту Кабарды на советской платформе»1. Н. Катханову как наиболее авторитетному религиозному деятелю поручили возглавить эту миссию и сформировать вооруженные отряды, которые при поддержке красноармейских частей 24 сентября 1918 г. сместили Т. Шакманова и его сторонников в Кабарде.
В результате здесь был образован Военно-шариатский революционный совет, состав которого был по большей части укомплектован представителями местного духовенства. Возглавивший его Н. Катханов отказался от политики «нейтралитета» и выпустил воззвание к населению следующего содержания: «В то время, когда другие мусульманские народы обливаются кровью в борьбе с восставшим казачеством, кабардинский народ объявлен нейтралитетом, что не должно быть по шариату»2. Отсылки к шариату, по всей видимости, подразумевали необходимость участия мусульман, которые должны поддерживать друг друга как братья по вере в священной войне – газавате, ведшейся против «иноверцев». Однако призывающие к ней забывали, что на Тереке развернулся не столько межнациональный конфликт, сколько социальный, гражданский. Советской власти противостояли не только православные по своей конфессиональной принадлежности казаки, но и многочисленные представители горских народов, в том числе и кабардинцев, являвшиеся такими же мусульманами, как и революционное духовенство. Таким образом, апеллирование к шариату в сложившихся обстоятельствах было недостаточно уместным.
Тем не менее большевикам удалось при содействии Н. Катханова сформировать в составе Красной армии Особую ударную советскую шариатскую колонну. В нее вошли шариатский конный полк Н. Катханова, осетинская сотня и несколько красноармейских отрядов.
Большевики, выступавшие противниками религии, пошли на компромисс, допустив использование слова «шариатский» в названиях органов власти и вооруженных формирований. Практика показала, что они готовы были пожертвовать чистотой идеологии, вступив в альянс с духовными деятелями, ради достижения конкретных задач политической борьбы. Как отмечал У. Ули-гов, «большевики понимали, что они скорее дойдут до сердца мусульманского населения не отказом вообще от шариата, а истолковав его в их же интересах, противопоставив контрреволюционному шариату советский шариат» (Улигов, 1979: 196).
Ударная шариатская колонна приняла участие в подавлении антибольшевистского казачьего восстания на Тереке. Ставка советов на союз с «шариатистами» оправдала себя. Однако, когда угроза существованию советской власти в регионе была ликвидирована, большевики в своей дальнейшей деятельности поспешили избавиться от исламской атрибутики, религиозных лозунгов и идей и постарались привести разношерстные просоветские силы Терека к единому знаменателю.
Военно-революционный шариатский совет был упразднен. Вместо него по аналогии с соседними административными единицами Терека в Кабарде был снова учрежден Окружной народный совет как высший орган исполнительной власти в округе. Ударная шариатская колонна и входящий в ее состав шариатский полк Н. Катханова были расформированы и включены на общих основаниях в состав Красной армии Северного Кавказа. Сам Н. Катханов был назначен командующим войсками Нальчикского округа. По сути, данные пертурбации означали конец альянса большевиков с исламским (шариатским) движением в Кабарде. Но не в том смысле, что участники его по каким бы то ни было причинам прекратили сотрудничество, а в том, что одна из сторон этого альянса (большевики) поглотила, подчинила своим целям вторую - движение Н. Катханова. Если же говорить о задачах, то можно утверждать следующее: большевики своих целей достигли, нейтрализовав казачье восстание и укрепив советскую власть. Духовные же деятели во главе с Н. Катхановым реализовали свои экспектации от союза с большевиками лишь частично, то есть они получили политическое влияние в Кабарде, вытеснив прежнюю дворянскую элиту, но им не удалось реализовать проект советской шариатской республики, в которой бы органично сосуществовали социализм и исламская идеология (советская власть и шариат), поскольку в новом государстве могла господствовать лишь одна идеология, не терпящая конкуренции в лице какой бы то ни было религии.
Терские большевики воспринимали духовных деятелей и многочисленную группу их сторонников как временных, ситуативных союзников, поэтому уже после утверждения советской власти на Северном Кавказе в 1920 г., как метко выразился К. Чхеидзе, «религиозное старичье было отброшено за ненадобностью» (Чхеидзе, 2008: 28).
Теперь рассмотрим деятельность аварского шейха Узун-Хаджи, сплотившего горцев под исламскими знаменами. Наиболее яркие эпизоды его политической биографии связаны с периодом борьбы с режимом А. Деникина. Одним из центров сопротивления белым являлась горная Чечня. Именно сюда в сентябре 1919 г. перебрался из Дагестана с группой своих сподвижников Узун-Хаджи. Обосновавшись в ауле Ведено, он провозгласил Северо-Кавказское эмирство, а сам стал имамом всех мусульман региона. Обращение Узун-Хаджи именно к такой форме сплочения горцев в рамках теократической политии не было случайным. Здесь прослеживаются прямые параллели с деятельностью имама Шамиля, также аварца, сумевшего организовать в период Кавказской войны государственное образование - имамат. Идеология последнего совмещала борьбу горцев за свободу и за веру, что позволяло преодолеть разногласия между мусульманскими народами и сплотить их для решения актуальных задач. Организация теократического государства помогла Шамилю использовать аппарат принуждения для сбора налогов на содержание армии, регулярно пополнять ее, наладить производство вооружения, подвергать репрессиям горские общества, не желавшие присоединяться к его движению.
Именно эта модель сопротивления знаменитого сородича была использована Узун-Хаджи, но теперь уже для борьбы с Белой армией. Успешность этого противостояния во многом зависела от сплоченности горских народов, основу которой, по мнению Узун-Хаджи, должна была составить апелляция к исламским лозунгам борьбы за веру. Однако, поскольку одними лозунгами побудить население к сопротивлению не всегда удавалось, Узун-Хаджи, как и имам Шамиль, опирался зачастую на аппарат государственного принуждения1.
Авторитет нового лидера среди горцев и его успехи в борьбе с деникинцами не остались без внимания большевиков. Несмотря на явную идеологическую враждебность Северо-Кавказского эмирства советской власти, большевики решают использовать Узун-Хаджи как союзника в противостоянии с Добровольческой армией А. Деникина. Имам также был заинтересован в союзе с большевиками, к этому времени уже имевшими определенное влияние среди горских народов. Таким образом, обе стороны были склонны к объединению усилий в борьбе с Белой армией. Однако цели этой борьбы были разными: большевики после победы над А. Деникиным стремились распространить на Северном Кавказе власть советской России, а Узун-Хаджи - создать здесь независимое теократическое государство. Соответственно, обе стороны рассматривали друг друга как ситуативных союзников.
В состав правительства Узун-Хаджи были включены ряд советских работников. Так, Н. Катханов был назначен ответственным военачальником 1-й армии эмирства, а бывший командующий советскими войсками Терской области Н. Гикало возглавил 5-ю армию, которую по большей части составляли русские и горские красноармейцы.
Однако Узун-Хаджи понимал, что в составе его движения они преследуют свои задачи, поставленные им большевистским центром, – пытаются перевести национально-религиозную борьбу горцев в русло борьбы за советскую власть. Так впоследствии и произошло. Когда деникинцы потерпели поражение на основных фронтах гражданской войны и начали отход с территории Северного Кавказа, большевистские союзники эмирства фактически разорвали свои договоренности с Узун-Хаджи и стали проводить самостоятельную политику. В конечном итоге после изгнания белых из Терской области и восстановления на ее территории советской власти большевики отказались признавать Северо-Кавказское эмирство и предложили его лидеру сложить свои полномочия. Узун-Хаджи, естественно, ответил отказом и решил продолжать борьбу теперь уже с советской властью, однако 30 марта 1920 г. умер от тифа. Спустя непродолжительное время прекратило существование и эмирство.
Сравнивая политические биографии Н. Катханова и Узун-Хаджи в контексте рассмотренной проблематики, можно заключить, что схожим в действиях этих деятелей являлся союз с большевиками. Однако если движение Н. Катханова было инициировано ими, а сам он боролся за советскую власть и видел будущее своего народа в составе новой России, то Узун-Хажди, без посредничества советской власти образовавший Северо-Кавказское эмирство, рассматривал большевиков как временных, ситуативных союзников в борьбе с Белой армией и в идеале стремился построить независимое теократическое государство на Северном Кавказе.
Список литературы Эфенди Н. Катханов и шейх Узун-Хаджи: векторы этнорелигиозной консолидации горцев Северного Кавказа в условиях революционного периода (1917-1920 гг.)
- Буркин Н.Г. Великодержавность и национализм в горской историографии // Революция и горец. 1931. № 5. С. 44-60.
- Гугов Р.Х. Совместная борьба народов Терека за советскую власть. Нальчик, 1975. 495 с.
- Исхаков С.М. Гражданская война и мусульмане // Россия в годы гражданской войны, 1917-1922 гг.: очерки истории и историографии. М.; СПб., 2018. С. 361-407. EDN: YUITGP
- Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917-го - лето 1918 г.). М., 2004. 600 с. EDN: QTLBCZ
- Магомедов М.А. О некоторых особенностях Октябрьской революции и гражданской войны на Северном Кавказе // Отечественная история. 1997. № 6. С. 81-90.
- Текуева М.А. Исламское движение в Кабарде и Балкарии во время гражданской войны на Тереке // Ислам и политика на Северном Кавказе. Ростов н/Д., 2001. С. 175-187.
- Текуева М.А. Назир Катханов: штрихи к политическому портрету // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2003. № 1 (9). С. 13-21.
- Улигов У.А. Социалистическая революция и гражданская война в Кабарде и Балкарии и создание национальной государственности кабардинского и балкарского народов (1917-1937 гг.). Нальчик, 1979. 356 с.
- Чхеидзе К.А. Генерал Заурбек Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде. Нальчик, 2008. 120 с.
- Янчевский Н.Л. Гражданская война на Северном Кавказе: в 2 т. Ростов н/Д., 1927. Т. 1. 204 с.