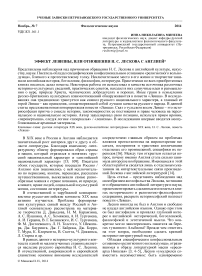Эффект левизны, или отношения Н. С. Лескова с Англией
Автор: Минеева Инна Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
Представлены наблюдения над причинами обращения Н. С. Лескова к английской культуре, искусству, науке. Писатель обладал специфическим конфессиональным сознанием «религиозного вольнодумца», близкого к протестантскому толку. Исключительное место в его жизни и творчестве занимали английская история, богословие, философия, литература. Практически во всех приобретенных книгах писатель делал пометы. Некоторые работы он использовал в качестве источника различных историко-культурных сведений, практических советов, находил в них созвучные идеи и размышления о вере, природе Христа, человеческих добродетелях и пороках. Иные грани в осмыслении русско-британских культурных взаимоотношений обнаруживаются в повести «Левша». В исследованиях она традиционно трактуется как символ русского национального характера, а главный ее герой Левша - как праведник, олицетворяющий собой лучшие качества русского народа. В данной статье предложена новая интерпретация повести «Левша». Сказ о тульском косом Левше - это историософская притча о смысле истории, закономерностях ее постижения и праве человека на персональную и национальную историю. Автор завуалировал свою позицию, используя прием иронии, «перевертыша», следуя логике «зазеркалья» / «левизны». В исследовании впервые вводятся неопубликованные архивные материалы.
Русская литература xix века, русско-английские литературные связи xix века, н. с. лесков, повесть "левша"
Короткий адрес: https://sciup.org/14750745
IDR: 14750745 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Эффект левизны, или отношения Н. С. Лескова с Англией
В XIX веке в России и Англии наблюдается значительный рост интереса друг к другу в области литературы. Благодаря взаимному литературному обмену формировался образ страны и нации, который отразился в понятиях «русский национальный характер» и «английский национальный характер» [15; 109]. Писатели обоих государств, которые посещали Россию / Англию или знакомились с ней исключительно по периодике, книгам, переводам, рассказам путешественников, высказывали самые разнообразные мнения о стране познания, ее природе, климате, нраве людей, социальной и культурной жизни, состоянии литературы.
В отечественной и зарубежной компаративистике русско-английские контакты XIX века активно изучаются. Проблема формирования культурных связей между Россией и Англией основательно рассмотрена на материале творчества Д. Давыдова, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, А. С. Хомякова, А. И. Тургенева, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, У. Шекспира, Дж. Бауринга, Дж. Г. Байрона, Дж. Борро, Т. Мура, К. Клермонта, В. Скотта, Ч. Диккенса, Л. Стерна и др.
В рамках данного историко-культурного контекста одной из малоизученных страниц является наследие русского европейца Н. С. Лескова. В отечественной, американской и европейской славистике основное внимание исследователей
сосредоточено главным образом на проблемах влияния протестантизма на мировоззрение писателя, восприятия и трактовки англичанами отдельных его произведений, специфики их переводов [16]. Между тем открытым остается вопрос, почему именно Англия столь сильно занимала авторское воображение. Имеющиеся в этой области работы сводятся лишь к отдельным указаниям на интертекстуальные связи произведений Лескова с английской литературой [14].
Цель статьи – представить наблюдения над своеобразием англофильства Лескова, мотивами его обращения к английской литературе и науке, прокомментировать сделанные им пометы в книгах исторического и религиозно-философского содержания, раскрыть историософский подтекст повести «Левша».
Лесков никогда не был в Англии и свободно не владел английским языком. Однако при этом он был англофилом и проявлял глубокий интерес к английской исторической, богословской, философской и эстетической мысли. Что конкретно могло заинтересовать писателя на берегах туманного Альбиона? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо сделать краткий историко-литературный экскурс.
Обладая специфическим конфессиональным сознанием «религиозного вольнодумца», отразившимся в образе литературной маски «ересиарха Николая» [3; 4–5], Лесков «умудрился совместить несовместимое: быть одновременно моралистом и эстетом», но «не русского интеллигентского или православного образца, а протестантского или толстовского» [1; 209]. Он проявлял глубокий интерес к генезису, истории и социологии мировых религий, европейской и восточной философии, многообразию вероисповеданий и историческим связям между ними, образам пророков и мессий (Христа, Будды), вопросам индивидуального духовного опыта. Писатель всматривался в особенности психологического склада людей разной социальной, этнической и религиозной среды. Размышляя о вере, религии, церкви, естестве человека, Лесков впервые в русской культуре поставил такую важную проблему, как феномен праведничества, указал на «парадоксальность положения верующего в секуляризованном обществе», предложил новый путь изображения «труда веры» как нарушения «светских приличий» [6; 5–6].
Какие источники питали творческое воображение писателя? Самый главный источник – жизнь. Индивидуальность авторского видения определялась прежде всего исключительной судьбой Лескова, рано столкнувшей его с действительностью. Он знал Русь «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру» [7; 118] и любил заявлять «”я сам народ” и вместо проблемных романов писал случаи из жизни» [1; 209]. В то же время нельзя игнорировать и специфику уникального мышления Лескова. Писатель проявлял себя необыкновенно разнообразно. В одном лице он совмещал историка, фольклориста, археолога, специалиста в области иконописи, коллекционера рукописных и старопечатных памятников, их издателя и комментатора. К выработке собственной позиции по тому или иному вопросу писатель подходил основательно. Путь к формированию индивидуальной точки зрения шел через освоение им большого количества специальных исследований и архивных материалов.
Исключительное место в выборе книжных источников занимала у Лескова английская литература. Анализ сохранившейся в отечественных архивах и музеях мемориальной библиотеки писателя, насчитывающей при его жизни более трех тысяч томов, показал, что значительную ее часть составляли сочинения английских историков, богословов, философов, художников, писателей в переводах на русский язык. Практически во всех приобретенных книгах он делал многочисленные подчеркивания, записи на полях, выписывал из них различные сведения в записные книжки. Наиболее значимыми для Лескова были следующие раритеты: лондонское издание «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Псалтирь или Книга Хвалений на российском языке» (1864); Полное собрание сочинений У. Шекспира (СПб., 1865); романы писателей XVIII века: Л. Стерна «Сентимен- тальное путешествие по Франции и Италии» / A Sentimental Journey Through France and Italy (СПб., 1892) и О. Гольдсмита «Вексфильдский священник» / The Vicar of Wakefi eld (СПб., 1846.); сочинения философа и социолога Г. Спенсера; труды английского богослова, экзегета Ф. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» / The Life of Christ (СПб., 1887), «Жизнь и труды св. апостола Павла» / The Life and Works of St.Paul (СПб., 1887), «Первые дни христианства» / The Early Days of Christianity (СПб., 1887), «Жизнь и труды св. Отцов и Учителей Церкви. Очерки церковной истории в биографиях» / Lives of the Fathers (СПб., 1891); книга С. Смайлса «Долг» / The Duty (СПб., 1882); перевод книги Д. У. Дрэпера «История отношений между католицизмом и наукой» / History of the Conflict between Religion and Science (СПб., 1876); проповеди выдающегося представителя гомилетической экзегезы в протестантизме Ч. Г. Спурджона (Сперджена) «Сети ловца: Мысли из сочинений» (СПб., 1876); работа Г. Бо-кля «История цивилизации в Англии» / History of Civilization in England (СПб., 1863); поэма поклонника и знатока Востока сэра Э. Арнольда «Светило Азии, или Великое отречение» / The Light of Asia (СПб., 1891), книга врача, теософа А. Кингсфорд «Научные основания вегетарианства или безубойного питания доктора медицины Анны Кингсфорд» / The Perfect Way in Diet, A Treatise advocating a return to the natural an ancient food of our race (СПб., 1893) и др. В кабинете писателя находились английские гравюры, на которых были запечатлены ключевые образы и события христианской истории, а именно «Пастырь добрый», «Путешествие в Эммаус» и «Ecce homo» [12].
В сочинениях англичан Лесков ценил высокий содержательный уровень, отсутствие в них национальной, конфессиональной и научной узости. Многие работы он популяризировал в своих отзывах, часто использовал в качестве источника различных историко-культурных сведений и практических советов, находил в них созвучные идеи о вере, природе Христа, человеческих добродетелях и пороках. Так, в рецензиях Лесков высоко отзывался о трудах Фаррара, открывавших читателю неизвестные русской науке факты раннехристианской истории и разъяснявших текст Нового Завета, часто выписывал из них сведения о раннехристианском Востоке, религиозной ситуации в египетской Александрии III–IV веков, быте и нравах александрийцев [8]. Многие эмпирические данные из работ Фаррара Лесков творчески трансформировал в созданном по мотивам древнерусского Пролога цикле «византийских легенд» [10]. Многочисленными пометами писателя отмечен текст поэмы сэра Э. Арнольда «Светило Азии, или Великое отречение». В своих сочинениях английский поэт много внимания уделял индийской мифологии и философии, взаимодействию христианства и буддизма, поиску аналогий между образами Христа и Будды. Судя по характеру сделанных карандашом подчеркиваний, Лескову были близки размышления Э. Арнольда о милосердии, сострадании, любви ко всему живому, мечте о всеобщем мире, грехе себялюбия. Особенно тщательно писатель отмечает те фрагменты, в которых говорится об антропологическом феномене – себялюбии. В это время Лесков вел предварительную работу по изучению природы «корневого» греха, его происхождения, трактовок в разных религиях, культурах, традициях. В тексте поэмы им подчеркнуты слова: «Грех самолюбия явился первым» (ОГЛМТ ОФ-610/197 РК. Ф. 2. Оп. 2. 273). Впоследствии природу порока себялюбия писатель раскроет в повести «Скоморох Памфалон» [10]. Из сочинения другого англичанина социолога и теоретика истории Г. Бокля «История цивилизации в Англии» Лесков кратко фиксирует в записную книжку данные о происхождении праздника Благовещенье : «25 марта, наз(ывается) теперь Госпожий день. В Честь Д(евы) Марии наз(ывало)сь в языческие времена Гиллария и было посвящено – Цибелле – матери богов» (РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 12). Книгу С. Смайлса «Долг» (СПб., 1876), в основе которой лежит протестантская этика, Лесков ценил за изложение тех нравственных идеалов, к которым, согласно его мнению, следует стремиться каждому человеку. Писатель настоятельно рекомендовал читать ее своему сыну А. Лескову. На титульном листе книги он написал: «Сыну моему Андрею Лескову, с просьбою книгу эту чаще читать, помня, что и я ее читаю, и при желании возражать мне для моего усовершенствования, – ограничивать себя указанием мне на подлежащие страницы этого превосходного сочинения Смайльса. Пасха 1888 года. Николай Лесков.» (ОГЛМТ ОФ-610/71 РК. Ф. 2. Оп. 2. 164).
Иные грани в осмыслении русско-британских культурных взаимоотношений обнаруживаются в художественном творчестве Лескова, прежде всего в повестях «Левша» и «Загадочный человек». В рамках статьи рассмотрим повесть «Левша».
Повесть «Левша» – одна из самых известных и читаемых в России и за рубежом, о чем свидетельствуют ее многочисленные переводы на европейские языки на протяжении уже двух столетий [4], [11], [16]. Между тем, несмотря на популярность произведения, наблюдается некая тенденциозность в трактовке его проблемнотематического поля. В исследованиях славистов повесть традиционно рассматривается как символ русского национального характера, а главный ее герой Левша – как праведник, олицетворяющий собой лучшие качества русского народа: мастерство, трудолюбие, смекалку, отзывчивость, степенность, юмор. В споре с англи- чанами именно он одерживает победу. Однако, в отличие от англичан, проявляющих заботу о своих людях, русские равнодушны к собственным талантам [13].
Данный проблемно-тематический комплекс лежит на поверхности повести. Между тем в произведении просматривается и иной «скрытый» смысловой пласт. Писатель в свойственной ему манере любителя литературной игры, «перевертышей» и мистификатора зашифровал его.
На наш взгляд, повесть Лескова «Левша» – это оригинальная историософская притча о смысле истории, закономерностях и границах ее постижения и праве каждого человека на персональную и национальную историю независимо от идеологии и социального статуса. Писатель завуалировал свою позицию, системно используя прием «перевертыша» и следуя логике «зазеркалья» (отражение асимметричных ситуаций, предметов, контраст, инверсия) и «левизны» («новое зрение», неформальный поиск, распространяющийся на план «содержания» и «выражения»), «выворачивания наизнанку» асимметрично, по терминологии Г. Вейля, выстроенных культурных миров, каждый из которых обладает свойственными ему «движением», «жизнью», «свободой» [2; 46–47]. Ключевые ситуации, образы, предметы наделяются Лесковым поливалентной семантикой. Они неожиданно могут проявляться и функционировать либо в «правом» (русском), либо в «левом» (английском) культурных пространствах1, а в определенных эпизодах – пересекаться и взаимодействовать друг с другом, искажать, изменять, дополнять друг друга, порождая новые смыслы. Высказанный тезис проиллюстрируем наблюдениями над структурными особенностями повести (сцены культурных состязаний между англичанами и русскими), семантикой имени Левши и образом подкованной блохи.
-
1) Какой потаенный смысл содержится в сценах культурных состязаний между англичанами и русскими? Текст состоит из 12 небольших глав. Если формализовать сюжет, то видно, что в его основе лежит архетипическая ситуация состязания / испытания инородцев. В повести Лесков иронически обыгрывает эту ситуацию трижды. Первое состязание / испытание происходит в Англии, когда подданные этой страны пытаются хитростью «пленить» «государя Александра Павловича» «чужестранностью», показывая ему «разные удивления» и «природы совершенства» (26–27)2. Оно оканчивается победой англичан. Им удалось удивить государя искусной работой, подарив ему миниатюрную механическую «нимфозорию» из «англицкой стали в изображении блохи» (30). Государь называет англичан «первыми мастерами на всем свете» и признает, что им «нет равных в искусстве» (32). Второе состязание / испытание снова
происходит в Англии, когда Левша привозит на «удивление» (47) подкованную на подковы блоху (46). На этот раз англичане признают победу русских мастеров. Между тем в дальнейшем Лесков не развивает ни одну из этих сюжетных линий и не дает возможности почувствовать себя победителями ни русским, ни англичанам. С целью нейтрализовать культурный конфликт писатель вводит третье состязание / испытание. Оно происходит между Левшой и английским «полшкипером» в бражничестве на корабле во время возвращения в Россию. В третьем состязании они шли на равных, и никто из них не выиграл пари. Культурный спор, кто лучше, кто хитрее, кто сильнее, трансформируется у Лескова в «дружеские», «братские» взаимоотношения. Русский и англичанин во многом не схожи, но в то же время и не чужие. Грань между «своим» и «чужим» временно стирается в ситуации «беды», «беспомощности», когда больному Левше все, за исключением «полшкипера», отказываются помочь. Англичанин – единственный, кто пытается позаботиться о нем. Он называет Левшу «мой русский камрад» (анг. сomrade – товарищ, друг по отношению к иностранцу, собрат) и с горечью говорит графу Клейнмихелю, когда тот пытается его прогнать: «У него хоть и шуба овечкина, так душа человечкина» (57).
Изначально показывая разницу между русским и английским менталитетами и утверждая самобытность каждого из них, Лесков обнаруживает объединяющие их экзистенциальные и этические начала. Всё и все в мире связаны невидимыми нитями, обнаруживающими себя в драматических ситуациях и проявляющимися с неожиданной стороны. В этом состоит смысл человеческой истории, ее логика и пути постижения.
-
2) Что символизирует образ блохи и почему тульские оружейники решили ее подковать? Русские мастера не стали создавать какую-либо диковинную вещь, аналогичную заморской. Они замыслили нечто более курьезное – подковали блоху. В их решении подковать блоху, «подвергнуть ее русским пересмотрам» (34) сработала логика народной сказки. В буквальном смысле – тульские оружейники сломали английскую «диковину» (блоха перестала «дансе» танцевать и «верояции, как прежде, не выкидывает» (43–44)), в символическом – изменили ее экзистенцию, придав объекту английской культуры русские черты. В образе подкованной блохи Лесков «скрестил» разные семиотические знаки: английская сталь + русское железо; насекомое + подкова для копыта лошади. Что стоит за этим полигенетичным образом? На наш взгляд, ответ на этот вопрос содержится в тех эпизодах, где речь идет о восприятии подкованной блохи англичанами и русскими. Судя по тексту, в «левом» (английском) мире англичане восприняли привезенную им блоху в новом качестве просто,
недвусмысленно и положительно. Она стала для них свидетельством и признанием мастерства и таланта тульских оружейников. «Вы очень в руках искусны», – говорят они Левше в Лондоне (50). В «правом» же (русском) мире подкованная блоха, напротив, трансформировалась в объект неоднозначный. Неслучайно государь Николай Павлович, разглядывая работу тульских оружейников и акцентируя внимание на тонкости и изящности их работы, произносит многозначительно слова «лихо» (43), «удивление» (47). С одной стороны, подкованная на подковы блоха – символ высокого призвания русского «художного мужа», «искусного мужика» как духовного типа, «докапиталистического идеала целостного человека, мастера» [13]. «Протестантская мораль – это мораль мастера-умельца», в отличие от него «фабричный мастеровой – придаток машины, ни в коем случае не целостный, частичный, отчужденный человек» [13]. В связи с этим знаменательны финальные слова автора: «Таких мастеров, как баснословный Левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию» (59). С другой стороны, Лесков показывает, как символ «художного мужа» принижается в России. Его образ низводится до «нелепого», крайне «экзотичного» существа – «щипаная голова» (38), «босой» (42), «ихний дурак» (44), «в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается» (45), «озямчик старенький» (45), «шиворот разорван» (45), «неубранный и в пыли, неумытый» (46). Писатель в духе разрушительной иронии активизировал, вывернул наизнанку и продемонстрировал несостоятельность искусственно созданного в XIX веке государственными «мужами» культурного мифа об отношении к простому русскому человеку как к некоему «Другому», «чужеземцу» (т. н. «идеологическая насмешка») [5]. Чинам и вицмундирам он видится иррациональным, нерефлексичным, загадочным [5]. С подобным восприятием в России «искусного мужика» как «туземца» контрастируют английские сцены, в которых Левша, напротив, показан деловитым, целеустремленным, твердым и знающим, чего он хочет. История пребывания тульского мастера-умельца в «левом» (английском) мире – это альтернативная версия «официально» созданного в России мифа, лишавшего простого русского человека персональной и национальной истории.
-
3) Почему Лесков называл своего героя Левшой? Это не столько имя, сколько концептуализация и усиление «историософского» подтекста повести. Называя главного героя Левшой, Ле-
- сков обыграл комплекс разных семиотических знаков. Левша – это и тип «художного мужа», и житель зазеркалья. Его образ маркирован как реальными чертами, так и признаками потусторонности. Находясь в «правом» (русском) мире, Левша чувствует себя «Другим». Данное качество героя подчеркивается с помощью патологических описаний его телесности. В русском мире он «косой» (42), «на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученьи выдраны» (36). Между тем когда Левша прибывает в Англию, то там с ним происходят метаморфозы. В Англии описания телесности героя лишены каких-либо дефектных характеристик. «Там» срабатывает принцип «перевертыша» и логика «зазеркалья» / «левизны». Находясь в ином ментальном пространстве, Левша раскрывает свою потаенную природу. В Англии, как и в России, он демонстрирует свою преданность отечеству. Между тем если в России никто этого не замечал, то англичане оценили эти качества прежде всего.
Итак, англофильство русского европейца Лескова заключается в создании в отечественной словесности положительного образа Англии и англичан через освоение английской богослов- ской, исторической, философской, художественной литературы. Писатель особо ценил ее высокий научный уровень и близкую ему широту и непрямолинейность взгляда на мир. В трудах английских ученых и писателей он обнаруживает созвучные ему размышления об аксиологических, антропологических, онтологических проблемах. Английский мир стал для него и источником творческого эксперимента. Совершив символический выход за пределы собственной культуры, Лесков в повести «Левша» выразил собственные историософские взгляды на смысл истории, закономерности ее развития, процессы мифологизации истории в России, превращение простого русского человека в «чужого» в собственной стране. Асимметрично воссозданный писателем английский мир стал неким «зеркалом» мира русского, и наоборот. Используя принцип «перевертыша», иронии, семантический потенциал образов Левши и подкованной блохи, Лесков показал специфику взаимодействия двух культурных пространств, их отталкивания и сближения. В этом состоит эффект «левизны» как нового по мысли и форме «неклассического» взгляда на XIX век.
* Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития Петрозаводского государственного университета на 2012–2016 годы по подпроекту «Центр новых филологических исследований».
Список литературы Эффект левизны, или отношения Н. С. Лескова с Англией
- Ваш М. Г.: Из писем М. Л. Гаспарова. М.: Новое издательство, 2008. 452 с.
- Вейль Г.Симметрия. М.: Наука, 1968. 192 с.
- Ильинская Т. Б.Феномен «разноверия» в творчестве Н. С. Лескова: Автореф. дисс.. докг филол. наук. СПб., 2010. 48 с.
- Кавайон Д. Лесков в Италии//Неизданный Лесков: В 2 кн. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. С. 505-524.
- Кобрин К. От патерналистского проекта власти к шизофрении: «ориентализм» как российская проблема (на полях Э. Саида)//Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59). С. 49-57 . Режим доступа: http://magazines. russ.ru/nz/2008/3/kk5.html
- Кукулин И. Новые Странствования по душам//Круглов C. Натан: Цикл стихотворений. Херсонский Б. В духе и истине: Цикл стихотворений. Нью-Йорк: Ailuros Publishing, 2012. С. 5-17.
- Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. Т 2. М.: Худ. лит., 1984. 607 с.
- Лесков Н. С. Сочинения Фаррара о христианстве//Новое Время. 1888. № 4334. С. 2.
- Лесков Н. С. Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)//Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 7. М.: Худ. лит. 1956-1958. 570 с.
- Минеева И. Н. Древнерусский Пролог в творчестве Н. С. Лескова: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. СПб., 2003. 22 с.
- Мюллер де Морог И. Лесков во Франции и романской Швейцарии//Неизданный Лесков: В 2 кн. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. С. 524-534.
- Парамонов Б. Русский европеец Николай Лесков . Режим доступа: http://www.svoboda.org/content/article/393388.html
- Мемориальная библиотека Н. С. Лескова: Краткий алфавитный каталог . Режим доступа: http://фонды.музей-тургенева.рф/news.htmГ?id=16
- Першина М. А. Англоязычная литература как текст-прецедент в произведениях Н. С. Лескова: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Киров, 2013. 24 с.
- Шестаков В. П. Англия глазами русских (Восприятие английской культуры в России)//Россия и Запад. Диалог культур. М.: Изд-ВО МГУ, 2000. С. 109-137.
- Эджертон В. Лесков в Англии и Америке//Неизданный Лесков: В 2 кн. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. С. 458-505.