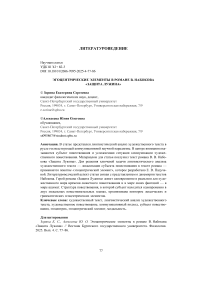Эгоцентрические элементы в романе В. Набокова «Защита Лужина»
Автор: Зорина Е.С., Алексеева Ю.О.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен лингвистический анализ художественного текста в русле господствующей коммуникативной научной парадигмы. В центре внимания оказываются субъект повествования и усложненная ситуация коммуникации художественного повествования. Материалом для статьи послужил текст романа В. В. Набокова «Защита Лужина». Для решения ключевой задачи лингвистического анализа художественного текста — локализации субъекта повествования в тексте романа — применяется понятие «эгоцентрический элемент», которое разработано Е. В. Падучевой. Литературоведческий аспект статьи связан с представлением о двоемирии текстов Набокова. Герой романа «Защита Лужина» живет одновременно в реальном для художественного мира времени сюжетного повествования и в мире своих фантазий — в мире шахмат. Структура повествования, в которой субъект находится одновременно в двух модальных повествовательных планах, организована повтором лексических и грамматических эгоцентрических элементов.
Художественный текст, лингвистический анализ художественного текста, художе-ственное повествование, коммуникативный подход, субъект повествования, эго-центрик, эгоцентрический элемент, модальность
Короткий адрес: https://sciup.org/148332646
IDR: 148332646 | УДК: 81’42+ 82-3 | DOI: 10.18101/2686-7095-2025-4-77-86
Текст научной статьи Эгоцентрические элементы в романе В. Набокова «Защита Лужина»
Одним из главных вопросов в лингвистике начала XXI в. является вопрос о модальной структуре художественного повествования. Концепция модальности разрабатывалась Ш. Балли в книге «Общая лингвистика и вопросы французского языка». Ученый разделил диктум и модус, охарактеризовав их следующим образом: «Эксплицитное предложение состоит… из двух частей: одна из них будет коррелятивна процессу, образующему представление <…>. Вторая содержит главную часть предложения… а именно выражение модальности, коррелятивной операции, производимой мыслящим субъектом» [3, с. 44–45]. Иными словами, диктум связан с отражением внеязыковой действительности, ее фактов, а модус (модальная рамка) показывает отношение к этим фактам говорящего.
Начало изучению этого вопроса на материале художественного текста положено в трудах В. В. Виноградова, который впервые заговорил о понятии «образ автора» в статье «К построению теории поэтического языка» в 1926 г. Под «образом автора» В. В. Виноградов понимает «индивидуальную словесно-речевую структуру, пронизывающую строй художественного произведения» [4, с. 151–152]; «образ, складывающийся или созданный из основных черт творчества поэта» [4, с. 113]. Идеи В. В. Виноградова развивались в его работах о языке писателей («Стиль “Пиковой дамы”» и «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума») [5, с. 3–56, 176–240].
Дальнейшие исследования в русле коммуникативного подхода вывели вопрос о реализации интенции автора на первый план. Собственно лингвистический аспект описан Г. А. Золотовой и ее учениками Н. К. Онипенко и М. Ю. Сидоровой в книге «Коммуникативная грамматика русского языка» [7]. Е. В. Падучева разрабатывала вопросы, связанные с позицией говорящего в аспекте типов повествовательных форм [10].
Семантический подход в анализе грамматики художественного текста предполагает особое внимание к говорящему. В центре внимания оказываются языковые средства, маркирующие позицию субъекта. Для анализа художественного текста в коммуникативном аспекте в лингвистике накоплен целый ряд инструментов. Так, Е. В. Падучева вводит термин «эгоцентрики», подразумевая под ними «языковые элементы, семантика которых предполагает в каноничной речевой ситуации говорящего» [10, с. 261]. Такой анализ позволяет идентифицировать, кому принадлежит тот или иной план, иначе говоря, с чьей позиции ведется повествование.
Для исследования языка художественных произведений необходимо привлекать литературоведческие работы, посвященные анализу текста. Важным является понятие «точки зрения», разработанное Б. А. Успенским в книге «Поэтика композиции» [11]. «Точка зрения» понимается как позиция, с которой ведется повествование в тексте. Отдельное внимание следует уделить книге В. Шмида «Наррато-логия» [12].
Материал и методы исследования
В свою очередь, следует обратиться к работам литературоведов и историков литературы, посвященных творчеству Владимира Набокова. Особенно актуальными для анализа романа «Защита Лужина» оказываются идеи В. Е. Александрова о потусторонности в текстах Набокова [2]. В. Е. Александров обращает внимание на «вневременное прозрение смысловых оттенков текста» у читателя, заключения которого зависят от того, насколько хорошо он запомнил детали [2, с. 12–13]. По мнению ученого, взаимосвязь между деталями текста обнаруживают не персонажи, а читатель, и поэтому любое открытие всецело принадлежит последнему [2, с. 22]. Б. В. Аверин называет это «приглашением к “тотальному воспоминанию” читателя» [1, с. 305]. Такое представление о взаимодействии автора и читателя соответствует описанию усложненной коммуникативной ситуации художественного нарратива Е. В. Падучевой [10, с. 214] или «несобственно-авторскому повествованию» в формулировке Н. А. Кожевниковой [8, с. 206]. Для локализации говорящего в такой коммуникативной ситуации необходимо проанализировать эгоцентрические элементы языка, то есть элементы, указывающие на я-говоря-щего.
Нарратив В. В. Набокова характеризуется усложнением сверхфразовой организации текста. В традиционном нарративе позиция повествователя неизменна, соответственно, неизменна и принадлежность эгоцентрических элементов. М. Я. Дымарский указывает, что в модернистском нарративе «процесс творения становится… главным содержанием произведения» [6, с. 258]. Повествователь в текстах В.В. Набокова может использовать модальные и эгоцентрические элементы, читателю трудно определить их принадлежность.
Результаты
В романе «Защита Лужина» повествование строится по принципу двоемирия — реальность жизни героев и шахматное измерение. Это два параллельных повествовательных плана, каждый из которых маркирован на модальном уровне. Хронотоп двух повествовательных планов пересекается. Таким образом создается иллюзия реального течения времени героев. Одним из связующих элементов повествовательной структуры является повтор, который реализуется на разных уровнях. Повтор сюжетных эпизодов маркирован эгоцентрическими элементами (здесь и далее курсивом выделены коррелирующие эгоцентрические элементы , а полужирным шрифтом — отличающиеся).
-
1. А) «В лесу было тихо и сыро . Наплакавшись вдоволь <…> Погодя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром . Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке , которая была сплошь в кольцах от дождя , и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках , и дорожка вверх, и через голые кусты сирени — дом» [9, с. 313].
-
2. Мечты отца Лужина о музыкальной карьере сына соотносятся с описанием гравюры, так как маркируются эгоцентрической синтаксической конструкцией: « вундеркинд в белой/ночной рубашонке до пят играет на огромном (черном) рояле »:
Б) «И точно: деревья неожиданно обступили его, шуршал папоротник под ногами, было сыро и тихо <…>, и слезы лились по лицу . Погодя он встал, снял с колена мокрый лист и, побродив между стволами, нашел знакомую тропинку . «Марш, марш», — подгонял себя Лужин, шагая по вязкой земле . Полпути было уже сделано. Сейчас появится река и лесопильный завод , и через голые кусты глянет усадьба. Он спрячется там, будет питаться из больших и малых стеклянных банок. Таинственная погоня далеко позади. Теперь уж его не поймаешь. Нет-нет. Если б только легче было дышать и прошла бы эта боль в висках, одуряющая боль… Тропинка, поюлив в лесу, вылилась в поперечную дорогу, а дальше, в темноте, поблескивала река . Увидел он и мост, <…> и на том берегу смутное нагромождение, и сперва, на один миг, ему показалось, что вон там, на темном небе, знакомая треугольная крыша усадьбы, черный громоотвод. Но сразу он понял, что это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов, ибо на перилах моста выросли мокрые от дождя, дрожащие, голые великанши , и невиданный отблеск запрыгал в реке . Он пошел берегом, стараясь найти другой мост , тот мост, где по щиколку утопаешь в опилках» [9, с. 391] .
Повтор маркирован лексическими эгоцентрическими элементами: « тихо и сыро » — « сыро и тихо »; « наплакавшись » — « слезы лились по лицу »; « погодя » — « погодя »; « нашел знакомую тропинку » — « нашел знакомую тропинку »; « побежал, спотыкаясь о корни » — « подгонял себя <…> шагая по вязкой земле » (эгоцентрические элементы « побежал » и « подгонял себя » означают ускорение, увеличение обычной скорости ходьбы, а « спотыкаясь о корни » и « шагая по вязкой земле » оба подразумевают препятствие, трудность при движении); « и через голые кусты » — « и через голые кусты ». Эгоцентрические элементы «поблескивала (река)» и « к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя » указывают на позицию наблюдателя в обоих фрагментах.
Повтор маркирован на синтаксическом уровне конструкциями: « мост, где по щиколку утопаешь в опилках »; « там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром » — « спрячется там, будет питаться из больших и малых стеклянных банок »; « тропинка, минут десять поюлив в лесу » — « тропинка, поюлив в лесу » — которые также указывают на позицию наблюдателя.
На семантическом уровне можно говорить не о повторе, а корреляции фрагментов: причина, по которой увиденный мост не совпадает с «тем мостом» из детства героя — «это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов», потому что герой увидел «великанш». В первом фрагменте/примере «мельница» — один из ориентиров в поисках дома в сюжетном повествовании романа и отсылка к известному эпизоду из романа Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий», которая реализуется в модальном плане читателя. Во втором — главный герой Лужин забывает о том, где расположена мельница; напоминанием служат возникшие великанши. «Тонкая уловка шахматных богов» заключается в том, что они восстанавливают детали прошлого лучше, чем память главного героя, и воплощают их в модальном плане воображаемой героем реальности.
А) «Лужин-старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына <...> он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле » [9, с. 315].
Б) «Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную в даль кабинета <...> в простенке висела гравюра: вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец, в сером халате , со свечой в руке, замер, приоткрыв дверь» [9, с. 412].
В первом фрагменте личное местоимение «он» указывает на Лужина-старшего, однако повествование принадлежит ему, так как маркируется модальным элементом: «в приятной мечте», который описывает внутреннее состояние героя. Во втором фрагменте присутствуют коррелирующие эгоцентрики: « отец» и повторяющаяся в тексте романа деталь описания отца Лужина — « серый халат »; однако позицию субъекта восприятия занимает жена Лужина, которая осматривает квартиру и видит гравюру.
Двоемирие романа — сюжетная реальность героев и мир шахмат — для главного героя существует одновременно. Такая повествовательная структура предопределяет особую организацию времени и пространства. Детство главного героя описывается ретроспективно в воспоминаниях героя. Мотив памяти — центральный мотив творчества В. Набокова, «центральная тема, прошедшая через все творчество», как пишет Б. В. Аверин [1, с. 5]. Принцип воспоминания в тестах Набокова особый — «прошлое с контрабандой настоящего»: « Через много лет, в неожиданный год просветления (имеется в виду лечение Лужина. — А. Ю., З. Е. ), очарования , он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения » [9, с. 309], «восстановляя ощущение именно этой болезни, он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, — и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед» [9, с. 344].
Череда событий в жизни Лужина недоступна читателю, потому что герой не может их вспомнить: «И все другое, что было между ней и переездом в Петербург, — два месяца, как-никак, — было так смутно и так спутано, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда» [9, с. 342]; «невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография, невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже» [9, с. 343]. Ошибка Лужина заключается в том, что герой пытается восстановить события с помощью логики, рационально: «впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть» [9, с. 343]. Однако в мире художественной реальности Набокова привычная логика не работает, все строится по логике сна, то есть по логике, не доступной сознанию человека. Именно поэтому в воспоминаниях возможно путешествие во времени: «Шестнадцать лет спустя, снова посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб» [9, с. 344], который совершается в пределах одного абзаца. Эгоцентрические элементы, участвующие в формировании временных планов повествования, маркируют модальный план описания героя: герой совершает прыжок к себе взрослому, но в герое ничего не изменилось, он так и остался ребенком.
Оказавшись на стыке миров повествования, Лужин пытается найти свое место в нарративе автора: болезненно переживает соединение миров, борется: « Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах , хотя клонило ко сну, а потом сон никак не мог войти к нему в мозг, искал лазейки, но у каждого входа стоял шахматный часовой, и это было ужасно мучительное чувство » [9, с. 380]; испытывает страх: «Лужин мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое, е му одному приметное движение, недобрая дифференциация теней… затем поморщился , быстро провел подошвой по полу, стирая некоторое, уже совсем определенное, сгущение…Лужин, вытоптав в одном месте тень, с тоской увидел, что… происходит на полу новая комбинация… Тут неприятности на полу так обнаглели, что Лужин невольно протянул руку , чтобы увести теневого короля» [9, с. 381].
Принципиально важно для повествования романа, что мир шахмат характеризуется наличием категории пространства и отсутствием категории времени, в отличие от реальности, где присутствует и пространство, и время: «он живо чувствовал… если не слишком глубоко уходил в шахматные бездны » [9, с. 378]. Лексема «бездна» подразумевает объем и протяженность. Время для Лужина постепенно теряет свойство линейности, становится по-шахматному «вневременным», к примеру: «в самом темном и мшистом углу, маленький Лужин зарыл ящик » [9, с. 341]; а во время выздоровления это воспоминание проживается как недавнее: «“ Там, в роще, я что-то зарыл ”, — блаженно подумал он» [9, с. 402]. Первичный дейкти-ческий элемент «там» обозначает присутствие и непосредственное наблюдение места, однако Лужин в это время находится далеко и в пространстве (не в России), и во времени (16 лет спустя).
Реальное пространство редуцируется, остаются только фрагменты шахматного мира: «Он быстро отпер дверь и в недоумении остановился. По его представлению, тут сразу должен был находиться шахматный зал, и его столик, и ожидающий Турати. Вместо этого был пустой коридор» [9, с. 386–387]; «Убрали, — кисло сказал Лужин, указав тростью на пустой коридор. — Я не мог знать, что все передвинулось» [9, с. 386–387]. Герой перестает отличать реальность и сон: «“Реаль- ность?” — тихо и недоверчиво спросил Лужин» [9, с. 383]; произошедшее воспринимается героем как сон: «начал усиленно вспоминать прелестный сон, который ему приснился… будто странно сидит, — посредине комнаты, — и вдруг… входит его невеста, протягивая коробку, перевязанную красной ленточкой» [9, с. 384].
Лужин несвободен, он не может противостоять шахматам, вследствие этого герой забывает приметы действительности, теряет память — как свойство прожитого им времени: «…мир шахматных представлений проявил ужасную власть . Он играл без передышки четыре часа и победил, но, когда уже сел в таксомотор, то по пути забыл, куда отправляется, забыл, какой адрес дал прочесть шоферу (“...вас вечером”), и с интересом ждал, где автомобиль остановится » [9, с. 384–385].
Компромиссом выступает раздвоение в более овеществленном виде, когда в ситуациях кризиса Лужина появляется неопределенная фигура, помогающая герою. Сознание героя пребывает в шахматном мире, а в реальности функционирует некто, кто «возит его с турнира на турнир»: «Вообще же так мутна была вокруг него жизнь, и так мало усилий от него требовала, что ему казалось иногда, что некто, — таинственный, невидимый антрепренер, — продолжает его возить с турнира на турнир » [9, с. 360–361]. Фигура героя в конце романа приобретает физическую оболочку, полностью отделяется от Лужина: «“Вы хотите купить эту куклу?” — недоверчиво спросила женщина, и подошел еще кто-то . “Да”, — сказал Лужин и стал разглядывать восковое лицо . “Осторожно, — шепнул он вдруг самому себе, — я, кажется, попадаюсь” » [9, с. 457]. Присутствует упоминание «еще кого-то», кто не имеет описания и далее никак не действует. Возникает основание трактовать шепот самому себе в буквальном смысле, а подошедшего человека — как Лужина, осознавшего повтор, который при лингвистическом анализе текста характеризуется как повтор эгоцентрических элементов, указывающих на субъект повествования.
Шахматы несовместимы со временем: «решающую партию проиграл, оттого что просрочил время (будучи в шахматном измерении. — А. Ю. ), и противник, взволнованно крякнув, ударил по его часам » [9, с. 360]. Пребывание Лужина в небытии маркировано относительностью временных ориентиров странным образом: «И по истечении многих темных веков — одной земной ночи » [9, с. 402], так как далекие друг от друга величины (век и одна ночь) сопряжены. Следовательно, в другом измерении нет времени или оно устроено иным образом. Лужин выступает против времени: «И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться (то есть Лужин будет вспоминать нечто, напоминающее происходящее, — А. Ю. ), была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру» [9, с. 438] . Еще многим раньше персонаж без капли жалости рвет старый альбом матери: «Под руку все попадался альбом-гербарий с сухими эдельвейсами и багровыми листьями и с надписями детским, тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на теперешний почерк матери: Давос, 1885 г.; Гатчина, 1886 г. Он в сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей пыли» [9, с. 338] .
Память недоступна Лужину так, как обычным людям: «как будто ждал от когда-то уже виденных предметов и пейзажей того содрогания , которого он без чужой помощи испытать не мог » [9, с. 352]. «Только тиканье часов на ночном столике доказывало герою, что время продолжает жить » [9, с. 452], а «заметив, что тиканье часов прекратилось, ему показалось, что ночь застыла навсегда, <…> время умерло, все было хорошо, бархатная тишь ». Эгоцентрические элементы « все было хорошо », « бархатная тишь » говорят о том, что Лужин стремится к безвременью и пытается избежать повторов, воспоминаний, течения времени. Перед тем, как Лужин «выходит из игры», «золотые часы — подарок тестя — были вынуты особенно бережно » [9, с. 463], потому что герой, прощаясь с реальностью, прощается и со временем.
Субъектное пересечение мира шахмат и реальности сюжетного повествования проявляется в том, что видит Лужин перед уходом: «…он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты ...» [9, с. 465]. Место Лужина в пространстве реальности локализовано («он боком пролез в пройму окна » [9, с. 464]), но снаружи, внизу героя находится пространство шахматного измерения, которое маркировано эгоцентрическими элементами, отсылающими к шахматам («бездна» [9, с. 378, 465]) и шахматной доске («бледные и темные квадраты» [9, с. 465]).
Заключение
Герой романа Лужин — это субъект повествования, объединяющий два мира художественной реальности. На модальном уровне Лужин является субъектом, который маркирует эти два мира. В модальном повествовательном плане Лужина время замедляется, останавливается, а пространство искажается. Многочисленные повторы создают иллюзорность романного мира, который напоминает декорацию. Нарратив приобретает черты нелинейного повествования, становится объемным.
Объемный нарратив активизирует сознание читателя, которому предлагается проанализировать модальную принадлежность всех субъектов повествования и самостоятельно установить связи между множеством повторяющихся элементов. Читателю необходимо установить отнесенность эгоцентрических элементов определенному лицу, локализацию субъекта повествования, так как основной субъект повествования — Лужин — живет в двух мирах: реального сюжетного повествования и мире шахмат.
Множественное переключение субъектных модальных повествовательных планов, маркированное эгоцентрическими элементами для интерпретации в усложненной ситуации художественной коммуникации, создает объемное повествование и требует от читателя выступать сотворцом художественного произведения, умеющим ориентироваться в логике сна и двоемирия В. Набокова.