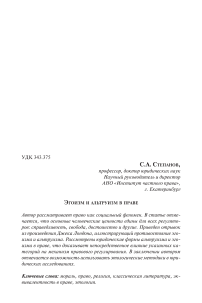Эгоизм и альтруизм в праве
Автор: Степанов С.А.
Журнал: Пермский юридический альманах @almanack-psu
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает право как социальный феномен. В статье отмечается, что основные человеческие ценности едины для всех регуляторов: справедливость, свобода, достоинство и другие. Приведен отрывок из произведения Джека Лондона, иллюстрирующий противостояние эгоизма и альтруизма. Рассмотрены юридические формы альтруизма и эгоизма в праве, что доказывает непосредственное влияние указанных категорий на механизм правового регулирования. В заключении автором отмечается возможность использовать отологические методики в юридических исследованиях.
Мораль, право, религия, классическая литература, эквивалентность в праве, этология
Короткий адрес: https://sciup.org/147228353
IDR: 147228353 | УДК: 343.375
Текст научной статьи Эгоизм и альтруизм в праве
Казалось, мировая юридическая наука по разным причинам переживает не самые счастливые свои годы. «Три слова законодателя и целые библиотеки отправляются в макулатуру…», как грустно и давно отмечали немцы. И ныне основанная волей-неволей на учении Канта и Гегеля европейская доктрина, пытаясь, с одной стороны, «спуститься» со сверхабстрактных пандектных высот, а с другой – «подняться» из комментаторских трясин, постоянно и без явного пока успеха ищет, нащупывает новые отправные точки, новые базовые плацдармы, с которых право, как социальный феномен, вдруг откроется (наконец-то!, где же так долго?!) неожиданной, волнующей и прекрасной, всеобъясняющей страной разумности, добра и справедливости… Иногда блеснет на научном горизонте искорка, но это далеко не значит, что заполыхает вокруг, может, курит кто-то… И в поисках этих иногда совсем не стоит «перебирать старые и забытые вещи на чердаке или в подвале». Есть смысл, вероятно, и, пожалуй, очень и очень немалый, сойти глубокой ночью с общетеоретического поезда (все уже знакомы, все рассказано, спето, съедено и выпито) на неизвестной станции и, вместе с удаляющимися фонариками последнего вагона, но уже с другой стороны обязательно появятся новые, иные огни…
Столь развернутое вступление к небольшому сообщению об эгоизме и альтруизме в праве представляется необходимым, т.к. юридические нормы не единственные и, пожалуй, не самые главные регуляторы нашей жизни. Традиции, религиозные правила, нравственность не только соседствуют с юридическим миром, но и, по существу, в глубинной первооснове формируют его. Основные человеческие ценности и ориенти- ры едины для всех регуляторов: справедливость, свобода, достоинство и многие-многие иные. Остановимся на взаимодействии морали и права в одной из самых напряженных и порой болезненной точке – эгоизме и альтруизме. Эти нравственные категории берут начало от биосоциальной основы человека как биологической единицы и общественного индивида. В настоящем сообщении нет необходимости приводить ссылки на монбланы и эвересты философской, социологической, психологической, теологической, антропологической и юридической литературы, посвященной старой, как мир, и новой, как утро, теме.
Юриспруденция во многом проецирует в качестве своего особого эмпирического материала жизненные, на грани «разрыва», ситуации и обстоятельства. И обнаружить яркие, точные и при этом – исходные теоретические «точки отсчета» для любой, в том числе и обозначаемой в настоящей статье проблематики, можно в классической литературе.
Джек Лондон
Как вешали Калтуса Джорджа Из сборника «Смок и Малыш» Лондон Д. Собрание повестей и рассказов (1911–1916):
М., «Престиж Бук», 2011.
Калтус Джордж, рослый, коренастый индеец из Серкла, неподвижно стоял в стороне, прислонившись к бревенчатой стене. Он был цивилизованным индейцем – если только жить, как живут белые, значит быть цивилизованным. Он чувствовал себя смертельно обиженным, и обида эта была очень давнишняя. В течение многих лет он делал все, что делают белые, работал бок о бок с ними и зачастую даже лучше, чем они. Он носил такие же, как у них, брюки, такие же шерстяные толстые рубахи. У него были такие же часы, как у них, он так же, как и они, расчесывал свои короткие волосы на боковой пробор и ел ту же пищу – бобы, сало и муку. И все же ему было отказано в величайшей награде белых – в виски. Калтус Джордж зарабатывал большие деньги. Он делал заявки, продавал и покупал участки. А сейчас он был погонщиком собак и носильщиком и брал по два шиллинга с фунта за зимний пробег от Шестидесятой Мили до Муклука, а за сало, как это было принято, – три. Его кошель был туго набит золотым песком. Он мог заплатить за сотню выпивок. И все же ни один буфетчик не отпускал ему спиртного. Виски – согревающее, живительное виски – лучшее благо цивилизации – было не для него. Только из-под полы, таясь и дрожа, по непомерно высокой цене мог он добыть себе выпивку. И он ненавидел эту проклятую межу, отделявшую его от белых, – ненавидел глубоко, много лет. А как раз сегодня он особенно изнывал от жажды, бесился и больше, чем когда бы то ни было, ненавидел белых, которым он так упорно подражал. Белые милостиво разрешали ему проигрывать добытое им золото за их карточными столами, но ни за какие деньги он не мог получить спиртного за их стойками. Поэтому он был очень трезв, очень логичен, и поэтому же он был необычайно мрачен.
– А Калтус Джордж? – крикнул кто-то. – Он пожирает пространство, как никто другой, да и силы у него свежие.
Все взоры устремились на индейца. Но тот молчал, и лицо его было по-прежнему бесстрастно.
– Возьмете упряжку? – обратился к нему Смок.
Но рослый индеец не отвечал. Словно электрический ток пробежал по толпе; все почувствовали, что готовится нечто непредвиденное. Люди заволновались, и вскоре вокруг Смока и Калтуса Джорджа, смотревших друг другу прямо в лицо, образовалось кольцо встревоженных зрителей. Смок понял, что с общего согласия он выступает в роли представителя своих товарищей в том, что совершалось, и в том, что должно было совершиться. Он был раздражен. Он не понимал, как может найтись хоть одно живое существо, не увлеченное общим порывом и отказывающееся принять участие в задуманном деле. Ему и в голову не приходило, что индеец отказывается по причине, не имеющей ничего общего с корыстолюбием и эгоизмом.
– Вы, конечно, возьмете упряжку? – сказал Смок.
– Сколько? – спросил Калтус Джордж.
Лица золотоискателей исказились, и страшный рев разнесся по комнате.
– Постойте, ребята! -- крикнул Смок. -- Может, он не понимает. Дайте-ка я объясню ему. Слушайте, Джордж. Разве вы не видите, что тут никто никого не нанимает? Мы отдаем все, что у нас есть, чтобы спасти двести индейцев от голодной смерти.
– Сколько? – сказал Калтус Джордж.
– Да постойте же, ребята! Слушайте, Джордж. Мы хотим, чтобы вы нас поняли. Голодают ваши же сородичи. Они из другого племени, но они тоже индейцы. Вы видите, что делают белые люди? Они отдают свой песок, своих собак, свои сани, наперебой предлагают свои услуги, просят взять их с собой. С первыми санями могут ехать только лучшие. Посмотрите на Толстого Ольсена. Он готов был полезть в драку, когда ему не позволили ехать. Вы должны гордиться тем, что вас считают первоклассным погонщиком. Тут дело не в «сколько», а в «как скоро».
– Сколько? – сказал Калтус Джордж.
«Убить его!», «Прошибить ему череп!», «Дегтю и перьев!» – слышалось в дикой кутерьме, поднявшейся вслед за его словами. Дух человеколюбия и товарищеской спайки мгновенно превратился в дикое исступление.
А в центре урагана неподвижно стоял Калтус Джордж. Смок отпихнул самого яростного из золотоискателей и крикнул:
– Стойте! К чему кричать? – Крики стихли. – Принесите веревку, – спокойно закончил он.
Калтус Джордж пожал плечами; мрачная, недоверчивая усмешка исказила его лицо. Он знал белых. Достаточно долго путешествовал он с ними, достаточно много бобов, сала и муки съел с ними, чтобы не знать их. Они поклонялись закону. Он прекрасно знал это. Они наказывали человека, нарушающего закон. Но он не нарушал закона. Он знал их законы. Он жил по ним. Он никого не убил, ничего не украл и не солгал. Закон белых людей не запрещал запрашивать цену и торговаться. Они все запрашивали цену и торговались. А он ничего другого не сделал, и этому они сами научили его. И кроме того, если он не был достоин пить с ними, то он, конечно, не был достоин заниматься вместе с ними и благотворительностью и принимать участие в прочих их нелепых развлечениях.
Принесли веревку. Долговязый Билл Хаскелл, Толстый Ольсен и игрок в кости очень неловко, дрожащими от гнева руками накинули индейцу на шею петлю и перебросили другой конец веревки через перекладину под потолком. Человек двенадцать зашли на другую сторону и стали сзади, готовясь тянуть.
Калтус Джордж не сопротивлялся. Он знал, что это блеф. Насчет блефов белые – мастера. Не покер ли их излюбленная игра? Не блеф ли все их дела – купля, продажа, торговля?
– Стойте! – скомандовал Смок. – Свяжите ему руки. А то он будет цепляться.
«Опять блеф», – решил Калтус Джордж и безропотно позволил связать себе руки за спиной.
– Ваш последний шанс, Джордж, – сказал Смок. – Берете вы запряжку? – Сколько? – сказал Калтус Джордж.
Удивляясь самому себе, своей способности совершить подобную вещь и в то же время возмущенный чудовищным корыстолюбием индейца, Смок подал знак. Не менее изумлен был и Калтус Джордж, когда почувствовал, что петля у него на шее затягивается и отрывает его от пола. В то же мгновение его упорство было сломлено. По его лицу пробежала быстрая смена переживаний – удивления, испуга и боли.
Право исторически и по природе производно от морали и религии. Нравственные и божественные начала необходимы и неизбежны в правовой материи. Альтруизм (для всех) и эгоизм (для себя) в исследуемом контексте можно представить в виде одного из критериев, с применением которых юриспруденция классифицирует и познает право (естественное – положительное, публичное – частное, императивное – диспозитивное и пр.). Давайте и мы, не вдаваясь в социальную и биологическую основу этих категорий, рассмотрим, на наш взгляд, главные юридические формы альтруизма и эгоизма.
Первая такая форма – существо и структура права в целом. На альтруизме, на его глубинных началах, основано публичное право в целом. Функционирование государства, налоги, воинская повинность, общественный порядок и многие другие общественно-правовые институты по своему характеру предполагают полный или частичный отказ от эго. Эгоизм, напротив, лежит в основе права частного, в первую очередь, в его экономическом фундаменте – праве частной собственности (абсолютные вещные права) и договорном праве, направленном в целом на обеспечение получения дохода. Немаловажно отметить, что нематериальные, неотчуждаемые, естественные права человека (жизнь, честь, имя и пр.) также являются юридическим проявлением эгоизма.
Альтруизм и эгоизм в исследуемом значении разделяют право в целом на материальное (эгоизм) и процессуальное (альтруизм).
Особой правовой формой эгоизма следует назвать семейное и наследственное право, более того можно обозначить основу семейного и наследственного права как некий коллективный эгоизм.
Вторая юридическая форма альтруизма и эгоизма – это отдельные публичные и частные правовые конструкции, закрепленные в законодательстве различных отраслей:
Альтруизм – благотворительная (меценатство, спонсорство) и волонтерская деятельность, безвозмездные договоры, действия в чужом интересе и пр.
Эгоизм – подавляющее большинство договоров в частном праве, от купли-продажи до банковских сделок, всех иных, в которых присутствует встречное предоставление – деньги, услуги, другие блага. Наиболее типичными эгоистическими сделками являются предпринимательские договоры, по сути своей корыстные. Более того, европейское законодательство императивно запрещает, например, дарение между двумя коммерсантами. Корысть и алчность сегодня – основные мотиваторы не только в торговой и банковской деятельности. Практически все гражданско-правовые договоры – это эгоистическое желание получить выгоду. Редкие исключения – дарение, ссуда, опека и попечительство и пр. не изменяют общей картины современной экономики, которая, кстати, в Европе сформировалась таковой лишь в 16 веке, когда моральные, религиозные и правовые нормы допустили ростовщичество.
Твердое и однозначное разделение правовых отношений на возмездные и безвозмездные имеется лишь в положительном праве. Научно-правовая идея исходит, во всяком случае, должна исходить не только и не столько из наличия или отсутствия встречного предоставления, материальной или иной выгоды, сколько из фундаментального (особенно для частного права) начала эквивалентности в праве. Следует отметить, что эквивалентность как понятие было известно еще древнеримским юристам, рассматривающим ее как справедливость. Если исходить из этого смысла, то деление правоотношений на возмездные и безвозмездные теряет смысл: даритель, к примеру, также получает удовлетворение, но не материальное, а духовное (или религиозное, не суть).
Изложенное краткое и фрагментарное исследование, тем не менее, позволяет сделать общий вывод о том, что нравственно-религиозные категории эгоизма и альтруизма непосредственной влияют на механизм правового регулирования, юридическую квалификацию, судейское усмотрение, пределы осуществления субъективных прав. Прямое же воздействие эгоизма и альтруизма совместно направлено на правовую культуру и правосознание и общества и каждого конкретного че- ловека. И это даже не воздействие, а две неотделимые сущности всех людей, как добро и зло, хорошо и плохо, справедливость и неспра-ведливость…А это уже наша с вами биология. Обращу Ваше внимание на блестящую работу Франса де Вааль «Истоки морали: В поисках человеческого у приматов» (Frans de Waal. THE BONOBO and THE ATHEIST: In Search of Humanism Among the Primates). Прочтите эту книгу о животных, альтруизм и эгоизм которых очень похож на людской, но более искренен и ярок.
И в заключение. Есть такая удивительная наука – этология. Действительно и бесспорно – наука, которая в силу украденного у ней времени (в углу долго стояла с табличкой «лженаука») занимается не поисками собственного предмета и метода, а действительно важными и теперь крайне необходимыми проблемами. Проблемами, которые лишь отчасти проистекаемы из отношений фауны и полностью – из социума «индивидуумов», объявившихся себя и себе подобных (кстати, не всех почему-то) «венцом». Формат настоящего не делает необходимым долго и нудно объяснять что есть наука этология, пусть для каждого, кто пожелает, останется возможность удивиться и, возможно, порадоваться. Этология – это наша «матрица», зазеркалье, наше, в какой-то мере, прошлое и будущее. Небоскребы и воздушные судна, плотины и дороги, многое другое, объективное и субъективное (как известно со времен «Истории животных» Аристотеля) в людской жизни не более чем заимствования и интерпретации. Важны даже не возможности научных результатов этологии для «человеческой» экономики, социологии, психологии, не менее (а может быть и более!) важны для осмысления юридического бытия. Юридическая этология как научная прикладная дисциплина вкупе с «классическим» методологическим инструментарием философии и теории права позволит исследователям по меньшей мере вырваться из самими же исследователями выстроенной доктринальной клетки, позволяющей лишь философию извлекать из философии, теорию из теории… Теория права, гражданское, уголовное, административное и любое иное (даже спортивное – оле-оле-оле) право могут получить неизученный, многообразный, крайне полезный и незаменимый эмпирический материал. Этот материал и этологические методики, преломленные в специальную оснастку юридической этологии, могут (и должны!) предоставить правовой науке возможность не доказывать свою научность, а в конечном итоге помочь праву во всех его проявлениях занять то достойное в системе человеческих ценностей место, которое давно уже пустует.