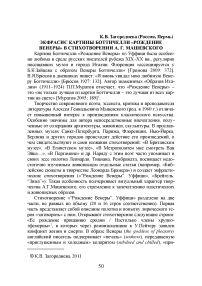Экфрасис картины Боттичелли "Рождение Венеры" в стихотворении А. Г. Машевского
Автор: Загороднева К.В.
Журнал: Мировая литература в контексте культуры @worldlit
Рубрика: Взаимодействие литературы и других видов искусства. Литературное произведение и иллюстрация
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147230187
IDR: 147230187
Текст статьи Экфрасис картины Боттичелли "Рождение Венеры" в стихотворении А. Г. Машевского
Картина Боттичелли «Рождение Венеры» из Уффици была особенно любима в среде русских писателей рубежа XIX-XX вв., регулярно посещавших музеи и города Италии. Флоренция «ассоциируется у Б.К.Зайцева с образом Венеры Боттичелли» [Громова 2009: 372]. В.Я.Брюсов в дневниках пишет: «Я вновь увидал мою любимую Венеру Боттичелли» [Брюсов 1927: 132]. Автор знаменитых «Образов Италии» (1911-1924) П.П.Муратов отмечает, что «Рождение Венеры» -это «не только лучшая из картин Боттичелли - это лучшая из всех картин на свете» [Муратов 2005: 189]1.
Творчество современного поэта, эссеиста, критика и преподавателя литературы Алексея Геннадьевича Машевского (род. в 1960 г.) отличает повышенный интерес к произведениям классического искусства. Особенно значимы для автора непосредственные впечатления, полученные от созерцания архитектуры, живописи, скульптуры. В прославленных музеях Санкт-Петербурга, Парижа, Флоренции, Нью-Йорка, Берлина и других городов происходит действие его произведений, о чем свидетельствуют и сами названия стихотворений: «В Британском музее», «В Египетском музее», «В Метрополитен мне смотреть Ван Эйка...», «В Пергамоне» и др. Наряду с этим поэт часто упоминает в своих эссе полотна Леонардо, Тициана, Рембрандта, посвящает недостаточно изученным живописцам отдельные статьи (например, «Библейские сюжеты в творчестве Леонарда Брамера») и создает экфрасти-ческие стихотворения («“Рождение Венеры”. Уффици», «Брейгель. “Зима”»). Такая особенность подчеркивает визуальный характер творчества А.Г.Машевского, его стремление к запечатлению пластических и живописных образов.
Стихотворение «“Рождение Венеры”. Уффици» разделено на две части, не равных по объему (20 и 16 строк соответственно). Первая часть представляет собой описание полотна и попытку лирического героя «заговорить» с ним. Открывают стихотворение следующие строки: «Ее рождение прощанию сродни / Настолько члены хрупкоэфемерны»2, в которых через реминисценцию к У.Пейтеру заявлен конфликт жизни и смерти. В образе Венеры (the goddess of pleasure) английский писатель подчеркивает «печаль» (sadness), передаваемую «приглушенным и холодным» колоритом (subdued and chilled), «при-
страстием к минорным тонам» (predilection for minor tones). Венера просыпается раньше людей, спешащих к своим «трудам» (labours) до самого вечера, и с «печалью» (sorrow) на лице думает о наступающем длинном «дне любви» (day of love). Внутренние противоречия богини наслаждения выражаются в образах-символах: маргаритки и розы, утра и вечера, света и тени, любви и печали, весны и осени, рождения и смерти. Подводя итог, Пейтер объединяет всех Венер Боттичелли «тенью смерти на сером теле и на бледных цветах» (some shadow of death in the grey flesh and wan flowers) [Pater 1998: 38]3.
А.Г.Машевский не называет главную героиню картины по имени, а использует вместо этого притяжательное местоимение «ее». В третьей и четвертой строках он обобщает свои наблюдения над полотном и подводит итог: «Да, это ты, твой беспощадно-верный / Потрет, любовь. Прекрасней западни...», причем ход его размышлений остается для читателя как бы «за кадром». Использование местоимений («ты», «твой») подчеркивает адресованность стихотворения, стремление лирического героя разобраться в увиденном.
Концентрируясь на семантике образа главной героини, Машевский называет картину на мифологический сюжет рождения Венеры из морской пены «портретом любви». Заглавные буквы «П» и аллитерация [р], [и] сближают слова «Портрет» и «Прекрасней», что обуславливает и близость оставшихся слов: «любовь» и «западня». Противостояние любви и смерти, заявленное в начале стихотворения, сменяется насла-ящением любовью и мучением из-за любви: «...Прекрасней западни / И простодушнее не выдумать, зато / Уж и безжалостней, мучительней, жесточе». Аллитерация [ж] и [л] в шестой строке и сравнительная сте -пень эпитетов передают процессуальность страдания от любви, ассоциативно сближая «любовь» и «жало».
Следующие шесть строк непосредственно посвящены описанию полотна. В первых двух появляются Зефиры, которые находятся на картине справа от Венеры. Их действия подчеркнуто динамичны: «А братья-ветры вот: целуют в очи / И сыплют розаны сквозь света решето». В экфрасисе картины поэт делает поэтическое допущение («целу -ют в очи»), так как на полотне Зефиры не прикасаются к Венере. Однако их полураскрытые и слегка вытянутые губы можно интерпретировать как порыв к поцелую. Следующие две строки посвящены действиям нимфы Оры4, хотя ее имя не упоминается в стихотворении: «Уже несут цветное полотно / Укутать стан прозрачной тканью долгой». Лирический герой подчеркивает прозрачность ткани, с помощью которой предпринимается попытка спрятать наготу Венеры. Боттичелли часто изображает своих героинь в прозрачных и полупрозрачных одеждах, стоит вспомнить хотя бы Граций из «Весны» или Минерву из «Паллады и кентавра». Завершают экфрасис картины строки, посвященные главной героине: «Когда б не раковины плотик, ты иголкой / Ушла бы, кажется, на сумрачное дно». Мотив жала, отмеченный нами в шестой строке, приобретает новые смыслы в связи с появлением иголки в одиннадцатой строке. Предмет острый, очень тонкий и несущий угрозу (жало) ассоциируется с ускользающей из рук металлической иголкой. Визуально белизна тела Венеры действительно напоминает блестящую сталь иглы, а ее маленькая, вытянутая на тонкой шее голова с длинными волосами - ушко иголки с ниткой. С одной стороны, тело Венеры, которое ассоциируется и с жалом, и с иголкой несет в мир определенную угрозу, с другой - она сама подвержена опасности в любой момент погрузиться «на сумрачное дно».
Создавая образ моря, А.Г.Машевский упоминает неподвижное «сумрачное дно», контрастирующее с «потоком людей», появляющимся в следующих строках: «И я, покуда двигался и рос / Поток людей в уныло-душном зале...». Автор вместе с читателем моментально переносится из пространства картины в современное пространство музея, подчеркивая «унылость» и «духоту» зала. Оставляя героиню за пределами досягаемого, лирический герой начинает мысленный диалог с ней: «...Хотел спросить, но мне глаза сказали / Твои, что бесполезен мой вопрос». Автор акцентирует внимание на будничном характере диалога и его бессмысленности. Фигуры «разговаривающих» кажутся застывшими по сравнению с движущимся «потоком людей».
Последнее четверостишие первой части заканчивается риторическими восклицаниями: «Что может знать и чувствовать на миг / Проснувшийся, и как призвать к ответу / Немую дурочку, наивнейшую эту / Девчонку, плеск волны, горячий солнца блик!». Из иллюзорного пространства картины и душного музея Машевский переносит читателя и главную героиню на открытое морское побережье, связывая последнюю с морем и солнцем.
Первая часть рассматриваемого нами стихотворения начинается с размышлений лирического героя о любви в целом и об образе главной героини (богини любви), в частности, и заканчивается отсутствием у него стремления к познанию, к поиску ответов на волнующие вопросы. Называя картину «Рождение Венеры» «портретом любви», Машевский ставит себе задачу поразмышлять над ним и попадает в западню. Образ любви-западни, возникающий в четвертой строке, получает развитие в последних восьми строках, в которых лирический герой не находит ответа на волнующие вопросы, более того, ему демонстрируют их бессмысленность, предлагая забыться в потоке удовольствий: ин- теллектуальное начало заглушает «плеск волны». Используя прием умолчания, А.Г.Машевский предлагает читателю самому догадаться, в чем заключалась суть разговора между ним и героиней, образ которой подчеркнуто противоречив. С одной стороны, ее обнаженное тело интерпретируется как беззащитность (мотив наготы), с другой - оно несет угрозу, заключая в себе соблазн (мотив жала, мотив иголки). Оживляя картину, автор позволяет себе вольное обращение с главной героиней, называя ее «немой дурочкой», «наивнейшей девчонкой». Мотив рождения, заявленный в первой строке, сменяется мотивом сна в последних строках и получает дальнейшее развитие во второй части стихотворения.
Как и первая, вторая часть начинается с рассуждений лирического героя о специфике образа главной героини на картине «Рождение Венеры»: «Вообще-то ведь она - фотомодель / Пятнадцатого века. По я^рналам...». Сталкивая два времени (XV и XX вв.), Машевский, с одной стороны, подчеркивает актуальность образа Венеры Боттичелли, с другой - его тиражируемость: «...Их столько наберется, точно хмель, / Цветущих, телом выпуклым и впалым / Своим берущих с ходу города / И заполняющих мелованное поле / Пустых страниц...». Цезура и ан-жамбман, характерные для всего стихотворения, создают нервный прерывистый ритм, инверсия «точно хмель цветущих», «телом выпуклым и впалым» затрудняет его восприятие. Посредством преодоления сложностей прочтения читатель вместе со зрителем как будто приближаются к разгадке картины. Обилие тропов сменяется их отсутствием в следующих четырех строках, где Машевский вступает в диалог с во -ображаемым собеседником: «...А ты уверен, да, / Что и она... не более? - Не боле, / Но и не менее. У греков красота / Принадлежала не себе, а миру». Короткие предложения, обилие знаков препинания, в том числе и многоточие, повтор слов («более»/«боле») и синтаксических конструкций («и она... не более» / «и не менее») подчеркивают прерывистость разговора, его недосказанность. Читателю остается только догадываться, о чем идет речь. Как и в первом случае, в разговоре с героиней, Машевский использует прием умолчания, но меняет пол собеседника. Теперь уже мужчине адресуется вопрос, волнующий лирического героя.
Пустота мелованных страниц (начало 7 строчки) и красота греческих статуй (конец 9 строчки) сближаются в сильных позициях. Проблема собственности и продажности, акцентированная в четвертой строке («телом» «своим берущих с ходу города»), получает вечный, непреходящий характер через объединение современности и древней Греции, в которой был культ богини любви5 и красота «принадлежала не себе, а миру». Мотив завоевания городов становится основным во второй части стихотворения и завершает разговор о специфике образа главной героини. Перенося Венеру Боттичелли из пространства картины в пространство глянцевых журналов, Машевский подчеркивает актуальность искусства флорентийского художника эпохи Возрождения, правда, его имя не упоминается ни в заглавии, ни в самом стихотворении. Примечательно, что в доступных нам стихотворениях и фрагментах прозы А.Г.Машевского тоже нет упоминания имени Боттичелли, зато аллюзии на флорентийского художника присутствуют в текстах автора постоянно. Так, в одном из стихотворений под общим названием «Эллада» есть такие строки: «Как будто все живые - живы, / А это - просто время сна. / Из рощ, где стелются оливы, / Бежит нарвать цве -тов Весна» [Машевский 2009: 3]. Очевидна аллюзия на картину «Весна» Боттичелли, в которой исследователи определили «более пятисот видов цветов, кустов и деревьев» [Дьяченко 2009]. Многие на переднем плане картины «взяты с натуры в окрестностях Флоренции. Эго розы, фиалки, маргаритки, лесная земляника, пурпурные ирисы, белые орхидеи, лесной волочай и др.» [Дунаев 1970: 60].
Круговая композиция стихотворения обусловлена возвращением в последних шести строках от глянца к картине: «Пари, сияй с прекрасного холста / Безмолвным вызовом и морю, и эфиру, / Природе всей, тоске и пустоте / Убогой жизни, нищенского быта. / Из пены грез ро-ждснныс все те, / Чья стать земная каждому открыта». Образ девушки, смотрящей на зрителя с «безмолвным вызовом», дополняет перечислительный ряд, в котором наряду с «морем» и «эфиром» соседствуют «тоска», «пустота», «убогая жизнь», «нищенский быт». Создавая портрет современной Венеры, автор сознательно не употребляет слово «Венера», используя вместо этого местоимения «она», «ее», «ты» и определение «фотомодель пятнадцатого века». Проблема собственности, принадлежности себе или миру, подчеркнутая местоимениями «твой», «твои», «своим», «чья» разрешается в последних строках. Стихотворение заканчивается мотивом рождения, как и начиналось. Его финал, построенный на антитезе «убогая жизнь» и «пена грез» вновь переносит читателя из пространства картины в современный мир, подчеркивая тонкую грань между сном и явью, грезой и реальностью, прошлым и настоящим, рождением и смертью.
Лирический герой эволюционирует от романтично настроенного в первой части к более осмотрительному во второй. Слова «пустота», «холста», «красота», «тоска», «стать», содержащие одинаковые звуки [с] и [т], во второй части стихотворения противопоставлены словам первой части - «иголкой», «плотик», «плеск», «блик», в которых по- вторяются звуки [л] и [к]. Однако если в первой части лирический герой не находит ответа на свой вопрос, то во второй он как будто сам отвечает на него. Мотив молчания отмечен нами в обеих частях. В первой части Магпевский сам называет героиню «немой дурочкой», во второй - отмечает ее «безмолвный вызов» на картине.
Таким образом, А.Г.Магпевский достаточно иронично относится не столько к героине Боттичелли, сколько к ее ремеслу, снижение образа происходит, в частности, за счет приема «оживления» картины. Правда, и для современного автора героиня остается такой же загадкой, как и для поэтов рубежа XIX-XX вв., уверенных в том, что на картине изображена Симонетта Веспуччи6.
Список литературы Экфрасис картины Боттичелли "Рождение Венеры" в стихотворении А. Г. Машевского
- Берти Л. Уффици и Коридор Вазари. Милан: Kina Italia, 1995. 144 с.
- Брюсов В.Я. Дневники. 1891-1910. М., 1927. 215 с.
- Громова А.В. Жанровая система творчества Б.К.Зайцева: литературно-критические и художественно-документальные произведения: дисс. д.филол.наук. Орел, 2009. 522 с.
- Дунаев Г.С. Композиция С.Боттичелли Весна//Искусство. 1970. № 11. С. 60-68.
- Дунаев Г.С. Сандро Боттичелли. М.: Изобраз. искусство, 1977. 252 с.