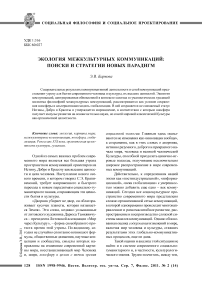Экология межкультурных коммуникаций: поиски и стратегии новых парадигм
Автор: Баркова Э.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социальная философия и социальное проектирование
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Содержательные результаты коммуникативной деятельности и сетей коммуникаций пред- ставляют угрозу для бытия современного человека и культуры, их высших ценностей. Экология коммуникаций, центрированная обновленной в контексте холизма и гуманистических традиций космизма философией межкультурных коммуникаций, рассматривается как условие сохране- ния ноосферы и альтернативная модель глобализации. В ней сохраняется не снимаемый статус Истины, Добра и Красоты и утверждается мировидение, в соответствии с которым ноосфера получает импульс развития на основе не только науки, но и всей мировой классической Культуры как органической целостности.
Экология, картина мира, межкультурные коммуникации, ноосфера, глобализация, ренессанс xxi века, органическая целостность культуры, гуманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14974442
IDR: 14974442 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Экология межкультурных коммуникаций: поиски и стратегии новых парадигм
Одной из самых важных проблем современного мира является все большая утрата пространством коммуникаций ориентиров на Истину, Добро и Красоту как высшие ценности и цели человека. Наступление нового осевого времени, о котором говорил С.Э. Крапивенский, требует напряженного и быстрого перехода к новым парадигмам социально-гуманитарного знания, сохраняющим эти ценности бытия и культуры.
«Дворник убирает не двор, он облагораживает кусочек планеты, которая называется Земля». Эти слова, недавно услышанные от литовского художника Дарюса Тамкявичу-са – президента Литовской ассоциации «Мир через Культуру», – форма своеобразного протеста против этой утраты. По-видимому, сегодня не случайно спонтанно возникают формулы, общественные движения, научные концепции и сообщества, смыслы которых направлены на изменение современной картины мира, восстанавливающей мир Человека и, шире, ноосферу в целом с точки зрения социальной экологии. Главным здесь оказываются не изменения как «инновации вообще», а сохранение, как в этих словах о дворнике, истинно разумного, доброго и прекрасного начала мира, человека и великой человеческой Культуры, способной преодолеть цинично-игровые подходы, получившие исключительно широкое распространение в мире современных коммуникаций.
Действительно, к определениям нашей эпохи как «постиндустриальной», «информационной», «века глобализации» с уверенностью можно добавить еще одно – век коммуникаций. Сегодня все социокультурное пространство современного мира представлено сложно организованной сетью коммуникаций, в которой одновременно происходит многонаправленное и разномасштабное развитие, распространение и воспроизводство сложной системы каналов коммуникаций. Однако обоснованная оценка содержания изменений в мире, включая мир человека и культуры, ставших результатами этих глобально-коммуникативных процессов, еще не дана.
Такой оценки и анализа этой ситуации не найти и в системе современного социальногуманитарного и, в частности, культурологического знания. Трудно посчитать, между тем, сколько только за последние два десятилетия написано работ о социальных и культурных коммуникациях, их технологиях, культуре и управлении в этой сфере, сколько прошло совещаний разного уровня и издано учебников, пособий, монографий, сколько получено грантов. Но что же явилось результатом этой работы? То, что происходит сегодня с миром, страной и нашей великой культурой, и это не может не вызывать чувство тревоги, так как процесс необратимых деформаций кажется предопределенным и не допускающим альтернатив.
Более того, становится все более ясным, что изменения экологической ситуации, природные процессы и катаклизмы последнего времени с их катастрофическими следствиями для тысяч людей в России и во всем мире связаны и прямо, и опосредованно со сбоями и содержательными трансформациями в системе коммуникаций «человек – природа». Не трудно предположить, что, подобно эху в горах, вызывающему сход лавин, эти ответы природы обусловлены антропогенными загрязнениями – результатами специфически человеческих форм деятельности, иначе говоря, согласно хрестоматийному определению, результатами культуры. Эта ситуация – основание для констатации не просто факта глобальной разбалансировки ноосферы и планетарного социума, возникшего из-за несоответствия коммуникативной культуры масштабу задач, вставших перед Россией и человечеством, и не только констатации мусора, который, по верному наблюдению Н.О. Осиповой, стал доминантой, обладающей онтологическим статусом в образе и модели современной культуры [6]. Сегодня, когда уже очевиден дефицит времени на решение этой проблемы, необходима разработка адекватной началу ХХI в. фундаментальной теории управления всеми типами коммуникаций и классически научный, объективный, а не игровой анализ содержания современных информационных каналов. Для этого требуется гуманизировать все коммуникативные процессы. Создание такой теории и вытекающей из нее культурно-регулятивной «матрицы» необходимо для того, чтобы быстро, точно, согласованно принять решения, осознав эту работу как сознательную деятельность человека на установление на Земле новых норм жизни.
Все это требует постановки вопроса о принципиально новом качестве, исследовании и месте в обществе экологии коммуникаций . Сегодня становится все яснее, что «если человечество задумывается о будущем, то это будущее не может быть продолжением прошлого или настоящего. Попытки построить третье тысячелетие на прежних основаниях будут обречены на неудачу. А ценой неудачи, то есть альтернативой изменившемуся обществу, является пустота» [9, с. 613–614].
Создание системы экологии коммуникаций, поскольку они универсальны в культурном пространстве, во-первых, делает традиционно-гуманистически понятую культуру основой объективно-научной экспертизы, оценки меры человеческого во всех системах и сетях коммуникаций. А во-вторых, вводит в содержание ноосферы не только разум и науку, но культуру в целом. Именно истинно-культурно-разумное основание гуманизации коммуникативного пространства сегодня может стать условием реального перехода, но не к пост- или наночеловеческому состоянию, а к культурному, или геокультурному, типу отношения к природе, космосу, человеку, то есть условием перехода к развитию на основе логики ноосферы. Опережая культурологов и обществоведов, математики уже начали исследования в этом направлении, поняв, что «если ХIХ век с его переделом мира можно назвать веком геополитики , ХХ – веком геоэкономики, то ХХI столетию, вероятно, предстоит стать веком геокультуры » (курсив наш. – Авт. ) [2, с. 3]. Специалисты в области информатики, а не ученые-гуманитарии, предлагают «пересмотреть существующее положение информатики в системе науки и в дальнейшем квалифицировать ее как самостоятельную отрасль научного знания, которая имеет как естественно-научное, так и гуманитарное значение » (курсив наш. – Э. Б. ) [3, с. 30].
Но это невозможно без новой культуры и новой гуманистической философии, в центре которой не проблемы инновационных информационных технологий и необходимой инфраструктуры – это лишь важные средства, инструменты, а соответствие всех типов коммуникаций главной цели – сохранению самой возможности разумной человеческой жизни на Земле и перспективам развития
Культуры, космизации человеческой деятельности, ноосферы. Эта цель актуализирует пересмотр содержания и статуса всех видов коммуникаций, включая смысл исследований коммуникаций между современной гуманитарной наукой и жизнью, культурой и жизнью и выдвижение в центр новой философии – философии межкультурных коммуникаций как основы экологии культуры.
Такая постановка проблемы межкультурных коммуникаций требует и возвращения к рефлексии исходного понятия – культуры. Вероятно, ближайшим образом эта логика восходит к традициям Ренессанса: интуитивно-художественной картине мира Марсилио Фичино с его пониманием Культуры как высокого синтеза образа-понятия-ценности – идеала, а не отвлеченного понятия, и к художественно-научно-философскому универсуму Леонардо да Винчи.
Главное здесь – не деятельность вообще, не ценности, способность к созданию символических структур, знаков или смыслов вообще, а такая деятельность Человека, которая задает ориентиры на открытие и освоение высокого истинного-доброго-прекрасного в самом Бытии, включая бытие человека и человечества. Это Культура, понятая и как Свет, как Маяк, ведущая человека к Встрече с миром природы, культуры и потому со своей собственной судьбой, в которой проявляется лучшее, что заложено в человеке. В такой культуре отражается органическая целостность, всеобщность-тотальность как закон Бытия с его содержательностью того первого Слова, которое «в начале было» – пра-об-раза, пра-понятия и пра-идеала всех культур. Вообще говоря, именно так, на основе холизма, Культура веками и понималась в классических русских, восточных и европейских традициях. Она всегда мудро исходила из объективного статуса органически целостной гармонии Духа-Материи, из красоты и правды Большого мира, из единства Неба и Земли – как бы она ни называлась в разные эпохи у разных народов. Она исходила из объективной гармонии Космоса, Природы, которая отражается в микрокосме – мире человека, космосе его души и его человечной деятельности. Классика в культуре – искусстве, науке, в человеческом общении, в любых про- явлениях деятельности – это и есть голос Целостности мира с его органичностью связей-коммуникаций вечного и временного, бесконечного и конечного, макрокосма и микрокосма, проявленной во всем, что создано человеком, но зажженной духом, умом, чувством, мудрой душой человека. Эта модель мира и есть ноосфера, выявленная на основе Культуры.
Однако сегодня органическая целостность ноосферы часто искажается в технологиях, образах и идеях мира коммуникаций с его игровой комбинаторикой и обезличенно-информационно-обменными процессами, в которых форма сняла содержание, внешнее целиком заменило внутреннее, глубокое, человечески-важное. Наглядной моделью такой подмены содержания понятий «культура» и «межкультурные коммуникации» могут служить аукционы современного искусства, на которых продаются произведения современного искусства высшей ценовой категории. Здесь культура – контекстное значение не оставляет сомнений – это все, что исходит от любого человека или от любой «состоятельной» группы и ее потребностей в коммуникациях. А потому, естественно, здесь абсолютно снят вопрос об объективных критериях оценки деятельности, общения, как и ценности произведений искусства. Характерно суждение Д. Томпсона в книге «Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы»: «Я сам, как экономист и коллекционер современного искусства, долго пытался понять, что именно делает данное произведение искусства ценным и какая алхимия заставляет продавать его за 12 миллионов долларов или за 100 миллионов долларов вместо, скажем, 250 тысяч долларов. Иногда работы продаются за суммы, которые в сотни раз превышают то, что представляется разумным... Дилеры и специалисты аукционных домов... публично говорят, что цена может быть любой... а в частной беседе добавляют, что покупка предметов искусства из высшей ценовой категории часто представляет собой азартную игру» [8, с. 13].
Симптоматичен в этом контексте и растущий интерес к асемическому письму – одному из новых направлений в современном искусстве, первая выставка которого в России прошла в Смоленске. Она сопровождалась презентацией антологии визуальной поэзии
«The last vispo», организованной литературнофилософским журналом «Слова». Напомним, что понятие асемии взято из лексики психопатологии и означает неспособность понимать любые символы и знаки.
Заметим, что в конце ХХ в., как в обыденной языковой практике, так и в науке произошло смешение двух разных типов межчеловеческих связей и взаимоотношений – безличного информационного обмена и человечного приобщения к внутреннему миру другого человека, его чувствам и мыслям. Интересно и показательно, что в последнем Философском словаре статья «Коммуникация» состоит из двух частей, написанных двумя авторами – Г.И. Рузавиным и Э.Ю. Соловьевым. У этих частей – два несоизмеримых языка, за которыми два стиля мышления, две логики. В одной из них коммуникация трактуется в аспекте информационных взаимодействий между объектами, в которых, как известно, различают источник информации, передатчик, преобразующий сообщение в сигналы, канал связи, приемник информации и адресат. В другом – экзистенциально-ценностном – коммуникация выступает как философское понятие, обозначающее человеческое общение, при помощи которого «Я» обнаруживает себя в другом (см.: [4, с. 303–304]).
Подчеркну здесь характерную для нашей науки рядоположенность этих статей: есть одно И есть другое. Но есть же и реальная связь между ними, и как она, согласно логике и мироотношению фундаментально-нормативного издания, должна пониматься? Не здесь ли кроется главный вопрос, и не следствием ли этой логики является реальная ситуация, при которой технологически понятые коммуникации уже сняли – по крайней мере в больших городах всего мира – ценность живого культурного общения, как и всех институтов, которые его традиционно обеспечивали? А развитие этой логики – использование всех доступных информационных каналов для утверждения отсутствия альтернатив в современном мире и реликтовом характере субъектов, отстаивающих свое право на иное общение и иной мир культуры. Их место лишь в пространстве прошлого. Но кто это доказал?
Напомним, однако, что еще в 80-е гг. М.С. Каган, автор известной работы «Мир об-
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ щения», прямо говорил о необходимости различать два типа связей человека с человеком и «развести смысл терминов “коммуникация” и “общение”» [1, с. 4]. Думается, что и сегодня такое разведение этих принципиально разных типов взаимодействий и в общественном массовом сознании, и в науке, и в сознании всех, занятых в сфере управления культурой, позволило бы избежать многих управленческих решений, сделанных на основе лишь первого – технико-технологического, информационно-детерминистского типа. Этот тип, получивший сегодня самое широкое распространение, не учитывает только такие «детали», как правда и ложь, разумность и абсурд, справедливость и насилие, «размывая» связи между всем подлинным и подделкой, высоким и низким, знанием, профессионализмом и их имитацией.
Безусловно, сегодня в мировой социально-коммуникативной системе преобладают технико-технологические типы коммуникаций, прежде всего финансовых, поскольку соответствия мировых глобальных и региональных стандартов на их основе устанавливаются наиболее очевидно и быстро. Однако столь же ясно и другое: сложившаяся и в современной России, и во всем западном мире практика не выдерживает критики. Более того, она оказывается разрушительной для всех, кто реально живет в человечески-жизненном пространстве-времени культуры, в мире ее высоких ценностей. Но особенно деструктивна она для сохранения и развития природы классики, нравственного и эстетического опыта, свободы и творчества. Драматично это отражается и на судьбе высоких образцов народных культур и состоянии промыслов практически всех народов, особенно малых, которые, как особые социокультурные организмы, существуют в своем более замкнутом, автономно-неспешном внутреннем времени и пространстве.
Такие тенденции возникают потому, что сети коммуникаций сегодня структурируют и определяют все культурное пространство как чисто информационную систему, поскольку их направленность, прежде всего, связана с поисками оснований ее максимальной устойчивости безотносительно к содержанию, сохранению или разрушению меры человеческого в культуре и человеке. Такое структурирование происходит как бы стихий- но, и создается впечатление, что в нем демократично распределяются различные информационные потоки со своими каналами сообщений и изначально равными статусами. То, что практически по всем ведущим российским телеканалам, кроме «Культуры», воспроизводится содержание лишь одного взгляда на мир – взгляда человека массовой культуры с его «структурами повседневности» – остается при этом «за кадром».
И это понятно: когда межкультурные коммуникации обезличены, то, во-первых, отправители и получатели без труда получают в этом пространстве принципиально разный статус, а во-вторых, в тени остается то, как именно средства коммуникации, особенно телевидение и реклама, воздействуют на содержание социальных трансформаций, культурных ценностей и потребностей через жесткий отбор и структурирование-распределение информации. А поскольку такое информационно-коммуникативное структурирование всего жизненно-культурного пространства в действительности оказывается системным процессом, то его основным средством являются овеществленные проводники информации, делающие сообщения анонимными, разрушая живые непосредственные контакты между отправителями и получателями. В философии и культуре ХХ в. многократно было описано и исследовано такое безличное и безликое общество. Достаточно вспомнить, например, известную мысль М. Хайдеггера о том, что мы думаем так, как думают другие, испытываем такую же тревогу или так же улыбаемся, как улыбаются другие. Но коммуникации в этом смысле потому и являются проявлением информационно-технологического пространства, что направлены не на сближение людей, а на потребности общественной системы, организованной по принципам технологий. В силу этого не только растет объем передаваемой и проходящей через каждого из нас информации с невероятным даже для второй половины ХХ в. ускорением, но и многократно ускоряется жизнь общества. Ускорение культурного времени проявляется в том, что человек не успевает глубоко осваивать предметный мир настоящего: с его игрушками, которые когда-то передавались от мамы и бабушки, свадебны- ми нарядами, пластинками, патефонами, магнитофонами – все это быстро сменяется новой модой и радикально новым предметным миром, превращая мир традиций в мгновенно забываемый архив, чтобы не сказать – в кладовку-склад ненужных вещей. Нарушенными, таким образом, оказались межкультурные коммуникации поколений, без которых общество как органическая целостность, как живая Вселенная, а не механическая, а потому легко управляемая целостность, «рассыпается». А каковы альтернативные пути развития? Разве не существует иных и более разумных моделей, например в странах Азии, прежде всего в Китае, Латинской Америке, Африке?
Тем более парадоксально, что с той же непреложностью, с какой весной сквозь толщу замерзшей и, кажется, каменно-ледяной земли пробивается хрупкий живой росток травинки, и в этих условиях в жизни современного общества и даже в больших городах сохраняется общение как форма живых непосредственных контактов между людьми, народами, регионами, континентами. Более того, не только сохраняются его традиционные формы общения, но получают развитие новые, в которых информационные технологии активно работают как средства передачи содержания и являются лишь вспомогательными. Главное же здесь – сами люди, их Бытие, а не механическое существование, большое дыхание Культуры, ее идеи и образы, которые рождаются в живом взаимодействии-полилоге, в формах дружески искренних и самоценных контактов. Но этот эколого-культурный, а не внешний, не поверхностный тип человеческих контактов как особая форма межкультурных коммуникаций, противостоящая циничному безразличию к содержанию жизни, сегодня должен получить и свое обоснование в системе философско-культурологических представлений и философии межкультурных коммуникаций.
Вот почему, подчеркнем еще раз, приоритет культуры в жизни общества должен быть неоспорим. Именно культура как наиболее глубинная и универсальная форма бытия народов должна сегодня формировать каналы всех социальных коммуникаций, задавать установку и общий человечный уровень, без чего процесс мировой интеграции и характер связей-коммуникаций между стра- нами и народами будет и дальше становиться еще более опасным для человека и его полноценного бытия.
А это значит, что именно межкультурные коммуникации во всем многообразии их форм действительно должны стать новой основой объединения всех людей на основе взаимного доверия и нравственности. Но речь идет о людях, созидательно работающих, а не имитирующих деятельность, то есть обо всех создающих подлинное, истинное, прекрасное, а не «раскручивающих» опасные для человека и человечества проекты, будь то «повороты рек», распространение бактериологического оружия или производство опасных игр. Таких людей-созидателей, а не имитаторов М.А. Лифшиц назвал производительным населением. Границы сообщества «производительного населения» широки, но не размыты, они включают в себя тех, кто занят как в сфере материальной культуры, в сфере производства, так и в широком смысле как школу всех ученых, художников, философов. Рамки этой школы «достаточно широки – она охватывает все производительное население Советского Союза, включая сюда и людей духовного труда» [5, с. 61]. Соединение всего многообразия «производительного населения», то есть способного к творчески-созидательной деятельности в самом широком смысле слова, создание условий для их встреч и строительства культурных мостов и есть цель экологии межкультурных коммуникаций . В них люди не просто проявляют свою активность, направленную на адаптацию к наличным условиям, но способность к жизнетворчеству, к саморазвитию как движению к миру Культуры, к обществу.
Важно подчеркнуть здесь и то, что ценность человеческого общения как вида межкультурных коммуникаций определяется важным критерием: тем, что оно вводит во все поры-структуры общества не любое содержание, а содержание, идущее от разумно-созидательной культуры, формируя тем самым новое качество целостности ноосферы, всего современного мира и его стандартов. Иначе говоря, в пространстве межкультурных коммуникаций задается ведущее направление ценностно-гуманистического освоения современности и движения к будущему не как к монополярно организованному миру, а как к
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ совместному «строительству» разнообразных культурных миров и мостов между ними. В этом смысле общение выводит каждого субъекта культуры, будь то человек, народ, нация, регион, человечество, за границы своей культуры и ставит перед необходимостью соотнесения себя с ценностями других людей, с содержанием мировых процессов, без чего непосредственный контакт с представителями другой культуры оказывается внешне поверхностным или вообще невозможным.
Интерес к межкультурному общению, внутреннее тяготение людей и культур друг к другу вызывают не абстрактное любопытство и желание получить новую информацию или заявить о себе, но стремление к взаимному признанию, а это иная основа адаптации локальных миров к требованиям международного сообщества. Такой тип связи вовсе не отменяет их культурной уникальности: она лишь оказывается тем особым зеркалом, глядя в которое любая культура способна и даже оказывается перед необходимостью проявить свою самобытность, выявив свой человечес-ки-творческий потенциал. Таким способом, через межкультурные коммуникации открывается глубина, содержательность ценностей и место каждой культуры в органической целостности современного мира.
Подчеркнем, что только так формируются культурные предпосылки того качества ноосферы, которое не просто связывает человека, современное общество и природу в органическое единство, но в результате чего происходит единение многообразия народов и локальных культур в культурную целостность человечества . Именно в этом заключена возможность наступления новой геокультурной эпохи. Инновационные формы межкультурного общения в ней многообразны, и они выражаются не только в результатах общения в виде бьеннале, арт-туризма, этнофестивалей, этноспорта, новых форм гастролей, разного рода молодежных обменов, но и в творчески-конструктивных подходах и работе со своими культурными традициями . Накопленный в последние годы опыт важен как поиск инновационных путей формирования ноосферы, решения глобальных коммуникативных проблем и практического преодоления обезличенности информационно-детерминистски понятых межкультурных коммуникаций.
В последние годы этот поиск не случайно «пробуждает» людей, движения мысли и деятельности общественных ассоциаций, которые ставят перед собой разные конкретные цели, но смысл общения в которых направлен на создание культурно-инновационных проектов, углубляющих межкультурное общение как условие для сохранения и очищения культурного пространства. Спонтанно и бессознательно, но этот процесс идет. По-видимому, в нем проявляется протест, несогласие с официальной инструментально понятой философией и практикой межкультурных коммуникаций, которая не возвышает человека, а опускает его до простейших форм адаптации к существующим условиям жизни. Примером такого инновационного проекта, соединившего практику такого межкультурного общения с поиском новой концепции и новой философии межкультурных коммуникаций, является Международное движение за утверждение Всемирного дня культуры.
Участники этого Движения – очень разные, не только представители интеллигенции, люди из 14 стран мира. Спонтанно, ибо у каждого свои творческие задачи и дела, но энергично они творят новую структуру, ставшую своеобразной творческой лабораторией. В ней изначально складываются межкультурные коммуникации, отвечающие эколого-коммуникативным критериям и стратегиям. На их основе сегодня идет работа, формируется ряд авторских программ и инновационно-культурных проектов, особенностью которых является выработка новых образов и идей, вырастающих из живой практики защиты дела культуры. Это организация встреч, выставочные и исследовательские программы, проекты анимации памятников, опыт нового осмысления проблемы игрушки в контексте экологии детства и др. Сегодня, насколько я могу судить, Движение, завершая определенный путь своего развития, находится в ситуации перехода от стихийно-эмпирического этапа своего формирования к более высокому – концептуально-мировоззренческому. Поэтому проведенный в апреле 2010 г. круглый стол «Приоритет Культуры в жизни общества» стал необходимым опытом такой коллективной мысле-деятельности. Тем самым этот инновационный проект-лаборатория становится способом активизации эколого-культурных ценностей в практике межкультурного общения. Этот конкретный проект является характерной приметой нашего времени как опыт практического переноса философии межкультурного общения в содержательные характеристики жизни его участников, в общую деятельность, в жизнь и обратно.
Именно в качестве проекта это Движение является опытом и программированием тех реальных позиций, которые возникают в общении. Поэтому его в известной степени можно уже считать опытом создания не просто инновационного направления в межкультурных коммуникациях – сегодня, повторим, их немало, но особого культурного моста в будущее, открывающего и прокладывающего пути развития высокочеловечного содержания самих культур через судьбы и дела конкретных людей. Вот почему мне думается, что опыт таких ассоциаций, получающих сегодня развитие на основе межкультурных коммуникаций эколого-культурного типа, может быть востребован и интересен для структур, профессионально занимающихся разработкой современной культурной политики .
Перспективность сотрудничества и социального партнерства Международного движения с государственными и негосударственными организациями тоже форма межкультурных коммуникаций, правда, на практике пока практически не проявленная. Однако она и сама может стать инновационным проектом, поскольку эта потребность идет не от инноваций ради инноваций, а от понимания реальности перехода возможности таких культурных коммуникаций в действительность, в мир, где живем мы, растут дети, где еще есть место ликованию, искренности, дружбе, любви. Такая практика важна как опыт и взаимное приглашение общества и государства к новым концепциям и проектам.
Сказанное свидетельствует о том, что стихийно идет обновление коммуникативного пространства на основе приоритетов гуманистически понятых межкультурных коммуникаций – тенденция, не замечаемая современной коммуникативистикой. Мир Культуры, защищая себя, в действительности создает формы мысле-деятельности и организаций, соответствующие ноосфере. Следуя мысли В.И. Вернадского, формируются новые условия и формы укорененности человечества в Бытии, придающие уверенность в человеческом будущем.
Напомним, что известная статья «Несколько слов о ноосфере», законченная в 1944 г., была написана в годы Великой Отечественной войны. Как ученый-естествоиспытатель и философ-гуманист, В.И. Вернадский не сочинял абстрактный проект – ответ на легко угадываемый социальный заказ, а убедительно вскрывал логику развития объективного мира и аргументированно доказывал, почему есть реальные основания надежды, почему важна твердая вера в победу, в которой должен проявиться объективный закон жизни, и потому выражал абсолютную уверенность в неизбежности победы над фашизмом. «Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим» [7, с. 220].
Поэтому исследование мировоззрения экологии межкультурных коммуникаций, открывающей логику ноосферы, означает утверждение в живой Вселенной мира Человека и Культуры не снимаемого идеала истины-доб-ра-красоты, позиций нравственной ответственности, жизнетворчества и социального партнерства, усиление человекоразмерного вектора творчества и всех инноваций. А ноосферное – на основе приоритета культуры – содержание всех коммуникаций, информационных систем и сетей может «переломить» сложившуюся ситуацию и усилить гуманистическое целеполагание во всех коммуникативных стратегиях современного общества. Ноосфера, таким образом, задает будущее на основе не только Разума, но и Человечности, Культуры как целостности.
Таким образом, экология межкультурных коммуникаций открывает свой смысл и назначение как мировоззренческая основа Ренес- санса ХХI в., возрождающего идеи человека как микрокосма, антропоцентризма, великого просвещения и философии космизма на основе качественно нового синтеза современных наук и высших достижений культуры. Тем самым она становится и основой новой геокуль-турной картины мира и культурного пространства-времени. Но главное здесь – не информационная плотность, не количество мегабайт, а гуманистически-содержательные, качественные характеристики человеческого общения, в которых открывается пространство доверия, взаимной поддержки, центрирующее содержание всех каналов и сетей современных коммуникаций.
Дворник убирает не двор, а кусочек планеты Земля, а культуролог?..
Список литературы Экология межкультурных коммуникаций: поиски и стратегии новых парадигм
- Каган, М. С. Мир общения: Проблема меж-субъектных отношений/М. С. Каган. -М.: Поли-тиздат, 1988. -321 с.
- Когнитивный вызов и информационные технологии/Г. Г. Малинецкий, С. К. Маненков, Н. А. Митин, В. В. Шишов. -М.: Ин-т приклад. математикиим. М.В. Келдыша, 2010. -36 с.
- Колин, К. К. Философии информации и фундаментальные проблемы современной информатики/К. К. Колин//Alma mater (Вестник высшей школы). -2010. -№ 1. -С. 29-35.
- Коммуникация//Философский словарь/под ред. И. Т. Фролова. -М.: Республика: Современник, 2009. -845 с.
- Лифшиц, М. А. Либерализм и демократия/М. А. Лифшиц//Лифшиц М. А. Искусство и современный мир. -М.: Искусство. XXI век, 1973. -336 с.
- Осипова, Н. О. Мусор как метафора современной культуры: от Авгиевых конюшен к медиальному спаму/Н. О. Осипова//Культура глобального информационного общества: противоречия развития. -М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. -С. 395-409.
- Прометей: ист.-биограф. альманах. -Т. 15: В.И. Вернадский. Материалы к биографии. -М.: Мол. гвардия, 1988. -352 с. -(Сер. «ЖЗЛ»).
- Томпсон, Д. Как продать за 12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах/Д. Томпсон. -М.: Центрполиграф, 2009. -351 с.
- Хобсбаум, Э. Эпоха крайностей. Короткий ХХ век (1914-1991)/Э. Хобсбаум. -М.: Независимая газета, 2004. -632 с.