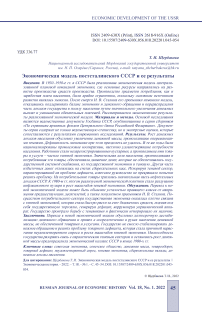Экономическая модель постсталинского СССР и ее результаты
Автор: Щербакова Татьяна Ивановна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие СССР
Статья в выпуске: 1 (56) т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. В 1930-1950-е гг. в СССР была реализована экономическая модель централизованной плановой командной экономики, где основные ресурсы направлялись на развитие производства средств производства. Производство предметов потребления, как и заработная плата населения, были крайне ограничены, поскольку основным источником развития являлась эмиссия. После смерти И. В. Сталина его преемники изменили модель, отказавшись поддерживать баланс экономики и денежного обращения и перераспределив часть доходов государства в пользу населения путем значительного увеличения денежных выплат и уменьшения обязательных платежей. Рассматриваются экономические результаты реализованной экономической модели. Материалы и методы. Основой исследования являются ведомственные документы Госбанка СССР, опубликованные в серии сборников «По страницам архивных фондов Центрального банка Российской Федерации». Документы серии содержат не только ведомственную статистику, но и экспертные оценки, которые сопоставляются с результатами современных исследований. Результаты. Рост денежных доходов населения обусловил увеличение денежной массы, происходившее опережающими темпами. Дефицитность экономики при этом преодолеть не удалось. В те же годы были национализированы промысловые кооперативы, частично удовлетворявшие потребности населения. Работники стали незарегистрированными кустарями, а производимые ими товары и услуги - частью теневой экономики. Значительная доля населения, производившая и потреблявшая эти товары, обеспечивала движение денег, которые не обеспечивались государственной системой снабжения, из государственной экономики в теневую. Другая часть избыточных денег отложилась на счетах сберегательных касс. Игнорируя теневой сектор, паразитировавший на проблеме дефицита, советское руководство не прекращало попытки решить проблему. На потребительские товары тратилась значительная часть нефтегазовых доходов СССР. К 1980-м гг. итогом реализуемой экономической политики стало раздувание инфляционного пузыря и рост масштабов теневой экономики. Обсуждение. Переход к новой экономической модели может быть объяснен усталостью правящего класса от напряжения предшествующих десятилетий, а также популизмом преемников И. В. Сталина. Посредством потребительского сектора государственная экономика оказалась плотно связана с теневой экономикой, которая стала быстро расти за счет бюджетных средств, подмяв под себя государственную торговлю, генерируя дефицит, коррумпируя управленческий аппарат. Государство проиграло борьбу с теневиками и фактически игнорировало их наличие. Заключение. Переход к новой экономической модели обусловил долгосрочную дестабилизацию денежного обращения и привел к сосредоточению в руках населения денежной массы, не обеспеченной товарами и услугами. Государство не смогло стабилизировать денежное обращение и решить проблему товарного дефицита, которая стала причиной нарастания неудовлетворенного спроса и роста масштабов теневой экономики. Неспособность государства разорвать связь с паразитическим теневым сектором и остановить рост денежной массы предопределила экономический коллапс СССР в конце 1980-х гг.
Советская экономика, советское общество, денежная масса, товарооборот, товарный дефицит, неудовлетворенный спрос, теневая экономика, сберегательные вклады, денежные доходы населения
Короткий адрес: https://sciup.org/147237077
IDR: 147237077 | УДК: 336.77
Текст научной статьи Экономическая модель постсталинского СССР и ее результаты
В 1930–1950-е гг. в СССР была построена модель централизованной плановой командной экономики, которая позволила форсировать развитие страны и обеспечить ее индустриализацию. Основным инструментом развития сталинской экономики являлась эмиссия. Ресурсы преимущественно были направлены на разви- тие производства средства производства. В целях недопущения дестабилизации денежного обращения денежные доходы населения сдерживались государством. Дефицит потребительских товаров обусловил рост хозяйственно-корыстной преступности и теневого предпринимательства, борьба с которыми велась усилиями правоохранительной системы.
После смерти И. В. Сталина его преемники изменили экономическую модель. При сохранении высокого уровня расходов на обслуживание статуса великой державы и отраслевых приоритетов советской экономики стали расти расходы на социальное обеспечение, просвещение, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, субсидирование сельского хозяйства. В рамках новой модели значительно увеличились денежные выплаты населению, что привело к резкому возрастанию денежной массы и усилению инфляционного воздействия на экономику. В данной статье рассматриваются результаты функционирования новой модели и ее влияния на советскую экономику.
Функционированию советской экономики посвящен первый том двухтомной монографии Г. И. Ханина. С постсталинским периодом автор связывает начало кризиса командной экономики [10, с. 126], отмечая при этом, что пятая и шестая пятилетки стали периодом, который характеризовался значительным повышением уровня жизни населения [10, с. 158]. Проблема инфляционного характера советской экономики рассматривается в диссертационном исследовании А. Ю. Протасова, одна из глав которого полностью посвящена этой теме. По мнению автора, инфляционные циклы советской плановой экономики обусловлены действиями центрального руководства, сосредоточившего в своих руках всю полноту экономической власти [8]. С проблемой инфляции сталкиваются исследователи, изучающие ее социальные последствия. По мнению В. Панкратова, прямым следствием увеличения в СССР денежной эмиссии, не имеющей товарного покрытия, стал рост масштабов теневой экономики [6, с. 129]. Следует отметить, что причинно-следственные связи между ростом денежных доходов населения, товарным дефицитом, инфляцией и ростом теневой экономики были эмпирически установлены Т. Корягиной, в чьей публикации впервые на фактическом материале был проанализирован процесс возникновения в СССР теневой экономики [3, с. 112]. В докторской диссертации С. В. Богданова рассмотрены масштаб и динамика хозяйственно-корыстной преступности с 1945 по 1991 г. [1].
Материалы и методы
Источниками по данной проблематике являются ведомственные документы Государственного банка, опубликованные в выпусках серии «По страницам архивных фондов Центрального банка Российской Федерации». Поскольку Государственный банк СССР отвечал за состояние денежного обращения, в выпусках сборника содержатся уникальные документы, не только отражающие внутреннюю статистику ведомства, но и позволяющие понять, какого рода сигналы специалисты учреждения отправляли в органы власти и чем они были мотивированы. Особый интерес представляют аналитические доклады, направляемые Государственным банком в ЦК КПСС и Совет министров СССР и отражающие наиболее острые проблемы денежной системы страны, в частности проблемы денежного обращения. Методика исследования построена на сравнительном анализе данных и оценок источника о состоянии денежного оборота страны с результатами современных исследований.
Результаты
После смерти И. В. Сталина экономическая модель страны существенно изменилась. Она приобрела потребительский характер, стала в большей мере ориентироваться на потребности людей. С 1953 г. началось увеличение денежных выплат населению. В результате ряда мероприятий денежные доходы сельского населения, которые ранее всемерно ограничивались, значительно выросли. С 1950 по 1967 г. они возросли в 8,4 раза, составив 28,45 млрд руб1. С 1 января 1957 г. повыша- лась заработная плата низкооплачиваемым рабочим и служащим. «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года, государство гарантировало гражданам пенсионное обеспечение и вводило единые основания для их начисления. С 1964 г. было введено государственное пенсионное обеспечение колхозников. В 1966–1970 гг. – повышен минимум заработной платы до 60 руб. в месяц. Отдельным категориям работников были подняты тарифные ставки, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, увеличились льготы и т. п.
Реализованные мероприятия способствовали нарушению равновесия между объемом денежной массы и размером розничного товарооборота. Более того, денежная масса росла нарастающими темпами и быстрее, чем увеличивались денежные доходы населения. С 1951 по 1959 г. денежная масса возрастала в среднем на 8,0 % в год при росте денежных доходов населения в среднем на 7,2 % в год, а розничного товарооборота – на 7,9 %. В 1960–1967 гг. рост денежной массы усилился, составляя ежегодно 12,7 %, в то время как денежные доходы населения и товарооборот росли прежними темпами – 8,0 % в год. В 1965– 1967 гг. среднегодовой прирост денежной массы вырос еще больше и составил 17,0 % при росте денежных доходов населения на 9,6 % и розничного товарооборота на 8,8 %, т. е. темпы роста денежной массы в обращении были почти в 2,0 раза выше темпов роста денежных доходов и розничного товарооборота2. В целом с 1951 по 1967 г. количество денег в обращении увеличилось в 5,3 раза3. Эта тенденция прояв- лялась и в дальнейшие годы. Если в 1965 г. доходы населения превышали его расходы на товары, услуги и обязательные платежи на 6,0 млрд, то в 1979 г. – на 24,4 млрд руб.4 В 1966 г. общее количество денежных средств населения в форме наличных денег, средств на вкладах в сберегательных кассах и других формах оценивалось в 33 млрд и за 20 лет увеличилось в 9,6 раза, составив к 1986 г. 320 млрд руб., тогда как объем розничного товарооборота и платных услуг увеличился лишь в 3,1 раза5. Приведенные данные свидетельствуют, что на протяжении 1950–1986 гг. денежная масса росла в СССР опережающими темпами, опережая и рост денежных доходов населения, и рост товарооборота.
Главная мера, на которую уповали специалисты Государственного банка, была связана с ростом производства потребительских товаров, продажа которых должна была, по их мнению, способствовать возвращению денежных средств и ограничению эмиссии. Однако соотношение между отраслями группы А (производство средств производства) и группы Б (производство предметов потребления) менялось не в пользу последних. Экономика сохраняла дефицитный характер. Преобладание производства группы А не только сохранялось, но и увеличивалось. Если в 1951–1957 гг. темпы роста производства по группе А превышали темпы роста производства по группе Б на 19,7 %, то в 1961–1965 гг. это превышение составило 61,6 %6. В результате доля предметов потребления в общественном продукте упала с 45,5 % в 1950 до 38,6 % в 1965 г.7, усиливая товарный дефицит.
Дефицитность советской экономики рассматривается исследователями в качестве главного фактора, обусловившего развитие хозяйственно-корыстной преступности как в довоенном, так и в послевоенном СССР.
У государства не хватало ресурсов и мощностей на производство товаров народного потребления. В результате в производстве предметов потребления была высока доля всякого рода предпринимательских элементов: кооператоров, некооперированных кустарей, а также нелегальных предпринимателей. Как подчеркивает В. А. Осипов, их деятельность теснейшим образом была связана с многочисленными нарушениями законодательства [5].
В 1956–1960 гг. в СССР была упразднена промысловая кооперация. Как пишут А. Пасс и П. Рыжий, к 1953 г. в системе промысловой кооперации было занято 1,8 млн чел., которые производили товары на сумму 31,2 млрд руб. [7, с. 114]. Промысловая кооперация преимущественно обслуживала потребности населения. В сталинской экономике деятельность промысловиков находилась под жестким контролем государства. Уклонения от налогов, работа на ворованном сырье, финансовые махинации вызывали многочисленные нарекания, но структура продолжала работать из-за востребованности ее товаров населением. После смерти И. В. Сталина в руководстве страны возобладали ликвидаторские настроения. 14 апреля 1956 г. вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации»8, в соответствии с которым наиболее рентабельные артельные предприятия были переданы государству. 20 июля 1960 г. состоялась окончательная ликвидация системы. Пленум ЦК КПСС предписал передать все кооперативные предприятия в ведение государственных органов.
Исследователи утверждают, что попытки встроить кооператоров в рамки госу- дарственного производства оказались обречены на неудачу. Большая часть членов кооперативов перешли в разряд кустарей, нередко уклоняясь от регистрации, и, таким образом, ушли в тень. Т. Корягина отмечает, что к 1973 г. кустари, которых в начале 1960-х гг. насчитывалось 150 тыс., составляли только 10 тыс. чел. [3, с. 114]. Заинтересованность частников в самостоятельном существовании и их нежелание работать в промышленности определялись разницей в получаемых доходах. По данным В. А. Осипова, в начале 1950-х гг. заработки кустарей составляли от 2 до 12 тыс., в то время как у наиболее высокооплачиваемой категории рабочих – металлургов и шахтеров - они не превышали 1,5 тыс. руб. [5, с. 16]. Косвенным подтверждением возрастания теневого сектора является резкое увеличение масштабов хозяйственно-корыстной преступности, которое фиксировалось исследователями в 1960-е гг. Именно к этому периоду исследователи относят трансформацию хозяйственно-корыстной преступности в систему теневой экономики. О. Осипенко характеризует теневую экономику как «достаточно пеструю по своей социально-экономической форме совокупность экономических отношений, прямо или косвенно связанных с получением стабильных доходов вне рамок действующего законодательства и социального контроля» [4, с. 133]. Т. Корягина подчеркивает, что теневая экономика присутствовала во всех отраслях народного хозяйства СССР и включала коррупцию, взятки, приписки, валютные спекуляции и др. [3, с. 117]. По ее оценке, в начале 1960-х гг. в СССР масштабы теневой экономики оценивались в 5 млрд руб. [3, с. 118]. Если в абсолютных цифрах теневых доходов лидировали отрасли сельского хозяйства, строительство и транспорт, то по ее относительному весу в той или иной отрасли лидером являлись торговля и сфера услуг, где объемы теневой экономики оценивались в треть официального рынка [3, с. 118]. Именно теневое производство товаров народного потребления, торговля и сфера услуг вовлекали в свою сферу деятельности самый широкий круг рядовых граждан, обеспечивая вывод заработанных ими средств в теневой денежный оборот, способствуя нарастанию денежной массы, провоцируя увеличение эмиссии и тем самым усиливая негативные тенденции в денежном обращении и инфляционное давление на экономику.
Упразднение кооперативов в условиях дефицитной экономики и роста денежных доходов населения, с одной стороны, загнало потребительский сектор в тень, а с другой – обеспечило для него широкие контакты с официальной экономикой как через сбыт товаров и оказание нелегальных услуг населению, так и через всеобщую криминализацию торговли, которая генерировала дефицит, укрывая товарные потоки и перепродавая их со спекулятивной наценкой. С. В. Богданов подчеркивает, что в конце 1950 – 1960-е гг. произошел значительный рост числа случаев организации в подпольных цехах производства товаров народного потребления: «Преступные схемы уже выходили за территорию одного города или области. Иногда создавалась широкая преступная сеть, включавшая в себя несколько нелегальных групп, территориально размещавшихся в различных республиках СССР» [1, с. 47].
Распространению хозяйственно-корыстной преступности способствовала десталинизация, в рамках которой происходила реорганизация правоохранительных органов, направленная на их сокращение и ослабление. По данным С. В. Богданова, к 1956 г. численность сотрудников Центрального аппарата Главного управления милиции
МВД СССР по сравнению с 1954 г. была сокращена на 48,8 % [1, с. 35]. Очевидно, что масштабы сокращения не могли не сказаться на эффективности работы правоохранительных органов.
Свидетельства разрастания теневой экономики имеются и в аналитических докладах Государственного банка СССР. Например, на фоне нехватки товарного обеспечения отмечается рост товарных остатков в количестве, превышающем увеличение розничного товарооборота: в 1960–1964 гг. при увеличении розничного товарооборота на 36 % запасы товаров в розничной торговле, опте и промышленности возросли на 45 %9. Основной прирост запасов непродовольственных товаров приходился на три товарные группы: одежду и белье, хлопчатобумажные и шерстяные ткани, кожаную обувь, т. е. на товары, которые пользовались наибольшим спросом населения. В условиях товарного дефицита такое накопление товарных запасов могло быть связано с укрыванием товаров в торговле с целью их последующей перепродажи по спекулятивным ценам.
Специалистами Государственного банка дана оценка объему покупок гражданами непродовольственных товаров у частных лиц. В 1970 г. такие покупки совершались на сумму в 4,8 млрд, а в 1973 г. – 5,9 млрд руб.10 К 1985 г. эта цифра выросла до 12 млрд руб.11
За 1970 г. доходы частников от услуг, оказываемых гражданам, оценивались экспертами Государственного банка в 3,5 млрд руб.12
Любопытной иллюстраций к приведенным данным является также статистика вкладов в сберегательные кассы: с 1950 по 1967 г. они возросли в 14,5 раза13. Накапливаемые населением денежные средства являлись следствием неудовлетворенного спроса и представляли собой очевидную угрозу денежному обращению. Особый интерес вызывают вклады на предъявителя, т. е. обезличенные вклады. Можно предположить, что они являлись формой сохранения и перераспределения нелегально нажитых капиталов. По данным экспертов Государственного банка, к 1958 г. средний размер вклада на предъявителя составлял 5,6 тыс. руб. – более чем в 2 раза выше среднего размера всех вкладов (1,9 тыс. руб.)14. В начале 1970-х гг. примерно половина вкладчиков сберкасс имели средний вклад в размере около 90 руб. (разница в номинале с предшествующим десятилетием вызвана денежной реформой 1961 г., которая сопровождалась деноминацией. – Т. Щ.) при средней заработной плате 122 руб. Вместе с тем на счетах 4,5 млн вкладчиков (5,1 % от общего количества счетов) было сосредоточено 18 млрд руб., или 30 % остатка вкладов. При этом сумма среднего вклада на этих счетах (оцененная экспертами Государственного банка как «относительно небольшая». – Т. Щ.) равнялась 4 тыс. руб.15 Для примера: стоимость легкового автомобиля составляла 5 тыс. руб.
В 1979 г. средства населения во вкладах, личном страховании и 3 %-м займе составили 165,1 млрд руб. против 20,7 млрд руб. в 1965 г., т. е. увеличились в 8,0 раза при росте денежных доходов населения в 2,5 раза16. Перечисленные данные фиксируют огромное количество избыточных денег, сосредоточенных в руках частных лиц. К ним следует приплюсовать деньги, кото- рые сохранялись гражданами в наличной форме. В 1973 г. при анализе покупюрного строения денежной массы эксперты Государственного банка выявили сумму банкнот, осевших у населения и практически выпавших из оборота, которая составила примерно 7 млрд руб.17, обозначив их как избыточные накопления.
Товарный дефицит значительно деформировал не только характер экономического развития СССР, но и его экономическую политику. Чем дальше, тем больше ресурсов направлялось на его ликвидацию. В 1970-е гг., по мере увеличения валютной выручки государства, был расширен импорт промышленных товаров и сырья для их производства, а также увеличен выпуск водки, ликеро-водочных изделий и вина. Эти меры были нацелены на изъятие денег из денежного оборота. По мере освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири значительная часть доходов от нефтяного экспорта направлялась не на экспорт технологий, а на закупку товаров народного потребления. По данным М. В. Славкиной, с 1976 по 1985 г., когда доход от экспорта нефти составил 107 млрд долл., более 50 % экспортной выручки расходовалось на импорт зерна, мяса, одежды и обуви, причем в отдельные годы, например в 1975 г., этот показатель достигал 100 % [9, с. 71]. С. Ермолаев заключает, что экспорт нефти и газа Советским Союзом значительно меньше зависел от конъюнктуры этого сырья на мировых рынках, чем от необходимости удовлетворять потребность в импорте продовольствия и оборудования
[2, с. 11]. Это означает, что Советский Союз наращивал экспорт нефти не только при высоких, но и при низких ценах, поскольку остро нуждался в товарах для населения. Преодоление дефицита не было достигнуто ни ростом производства, ни ростом импорта. Что касается масштабов теневой экономики, то, по подсчетам Т. Корягиной, с начала 1960-х по конец 1980-х гг. они выросли в 18 раз и по средним оценкам составляли 90 млрд руб. [3, с. 118].
Обсуждение
Экономическая модель, реализованная в СССР после смерти И. В. Сталина, носила потребительский характер. Инфраструктурные и индустриальные проекты, нацеленные на долгосрочное развитие, были свернуты, технологическое развитие затормозилось. Преемники вождя не только нарушили баланс денежного обращения, но и приняли меры для ослабления действия стабилизирующих механизмов. Наряду с увеличением денежных выплат, были уменьшены обязательные платежи, изымавшие у населения избыточную денежную массу. В частности, были упразднены государственные займы, отменены налоги с заработной платы до 60 руб. в месяц, а также налог на холостяков, малосемейных граждан и одиноких женщин.
Был ослаблен контроль за денежным оборотом, что сделало возможным бесконтрольное выделение финансовых ресурсов. Государственный банк, которому в 1930-е гг. были предоставлены рычаги для деятельного контроля за денежным обращением, в постсталинский период утратил их. Опубликованные документы Госбанка позволяют заключить, что его руководство на всех этапах осознавало опасность реализуемой кредитно-денежной политики и информировало об этом политическое руководство страны.
Причины перехода к новой модели носили глубоко субъективный характер, базируясь на консенсусе членов политического руководства страны. Г. И. Ханин, характеризуя постсталинский период как кризис командно-административной системы, объясняет его двумя причинами. Первая – это осознание советским руководством необходимости изменения облика социалистического общества, его либерализации. Вторая – усталость партийной верхушки от мобилизационного периода, желание «пожить полегче» [10, с. 140]. Принятые меры и их популистский характер объясняются также борьбой за власть, которая развернулась в СССР после смерти И. В. Сталина. Политическая победа Н. С. Хрущева с его волюнтаристскими представлениями объясняет социальные приоритеты и эгалитаристские установки постсталинского десятилетия. После отставки Н. С. Хрущева отказ от декларированных им социальных стандартов был уже невозможен. Трагедия в Новочеркасске табуировала использование непопулярных мер в экономике.
Как отмечает С. В. Богданов, в начале 1960-х гг. государство значительно активизировало борьбу с хозяйственными преступлениями, резко усилив репрессивность по этим статьям вплоть до использования высшей меры наказания. По данным автора, «только в 1961 г. судами РСФСР было приговорено к высшей мере наказания 1 890 человек, в 1962 г. – 2 159» [1, с. 47]. Любопытно, что отставка Н. С. Хрущева, с активностью которого С. В. Богданов связывает данную линию, произошла в октябре 1964 г., после чего, по замечанию исследователя, вплоть до начала 1980-х гг. фиксировался спад в количестве регистрируемых преступлений хозяйственной направленности, не говорящий о снижении количества данного вида преступлений в стране.
На протяжении послевоенного тридцатилетия руководство страны прилагало активные усилия для решения проблемы товарного дефицита. Особенно активно это происходило в 1970-е гг., когда было создано массовое производство автомобилей, холодильников, телевизоров, стиральных машин, началось развитие массового туризма. Строились предприятия, производящие белье, одежду и обувь. Крупными партия- ми товары импортировались из-за рубежа. Несмотря на все усилия, проблема дефицита так и не была решена. Новые товарные потоки, формируемые государством, через коррумпированную торговлю аккумулировались теневой экономикой, умножая благосостояние подпольных миллионеров.
К началу 1980-х гг., по оценке исследователей, теневая экономика представляла собой сложное системное образование, объединяющее преступные группы, дельцов и коррумпированный административный аппарат. Изъятие из государственного оборота денежных знаков достигло гигантских размеров, делая кризис вопросом времени.
Начало кризиса спровоцировала борьба с пьянством и алкоголизмом, в ходе которой были ограничены поступления в торговлю алкоголя, что привело к выпадению выручки от его реализации, снижению товарных запасов в рознице, опте и промышленности. Расходы государства стали превышать все имеющиеся в наличии ресурсы. За 1986–1987 гг. были использованы все накопления, созданные в предыдущие годы, и увеличены долги. В 1988 г. советская экономика оказалась в состояния коллапса.
Заключение
После смерти И. В. Сталина произошла смена экономической модели страны. Если раньше государственная эмиссия использовалась в интересах развития единого экономического комплекса, то с середины 1950-х гг. значительная часть эмиссии стала использоваться на удовлетворение потребностей населения. Переход к новой модели был реализован в ходе осуществления системы мер, нацеленных на увеличение денежных выплат населению. Принятые меры привели к долгосрочной дестабилизации денежного обращения и сосредоточению в руках населения денежной массы, не обеспеченной товарами и услугами. Часть этих денег уходила на счета в сберегательных кассах, а другая – шла на оплату товаров и услуг, которые граждане покупали у частников по спекулятивным ценам. Посредством массового участия граждан в производстве и потреблении теневых товаров и услуг государственная экономика оказалась соединена с теневой, которая аккумулировала растущий денежный поток. Через теневое производство товаров и услуг теневая экономика фактически оказывалась на содержании государства, компенсировавшего выпадающие денежные средства путем эмиссии. Неспособность государства разорвать связь с паразитическим теневым сектором и остановить рост денежной массы обусловила неизбежность экономического кризиса, инфляционные волны которого обрушили экономику Советского Союза в конце 1980-х гг.
Список литературы Экономическая модель постсталинского СССР и ее результаты
- Богданов С. В. Хозяйственно-корыстная преступность в СССР 1945-1990 гг.: факторы воспроизводства, основные показатели, особенности государственного противодействия: автореф. дис. … д-ра ист. наук. - Курск, 2010. - 50 с.
- EDN: ZOCMQP
- Ермолаев С. Формирование и развитие нефтегазовой зависимости Советского Союза. - М.: Моск. центр Карнеги, 2017. - 63 c.
- Корягина Т. Теневая экономика в СССР // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 110-120.
- Осипенко О. Экономическая криминология: проблемы старта // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 130-133.
- Осипов В. А. Частная хозяйственная деятельность в советской экономике в 1945-1960 гг. (на материалах Западной Сибири). - Кемерово: КузГТУ, 2003. - 87 с.
- EDN: QQBIOT
- Панкратов В. О связи кризисного денежно-финансового положения страны с функционированием структур теневой экономики // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 127-129.
- Пасс А. А., Рыжий П. А. Огосударствление промысловой кооперации в СССР во второй половине 1950-х гг.: причины и последствия // Социум и власть. - 2012. - № 5. - С. 114-122.
- EDN: PMSNAV
- Протасов А. Ю. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика: автореф. дис.. канд. экон. наук. - СПб., 2000. - 26 с.
- EDN: ZNOFIT
- Славкина М. В. Нефтегазовый комплекс и модернизация 1945-2008 годов: проблемы экономической истории и перспективы развития // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 7. - С. 65-74.
- EDN: OYDTLX
- Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время: моногр. В 2 т. Т. 1. Экономика СССР в конце 30-х годов - 1987 год. - Новосибирск, 2008. - 515 с.