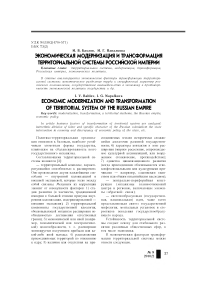Экономическая модернизация и трансформация территориальной системы Российской империи
Автор: Бахлов Игорь Владимирович, Напалкова Ирина Геннадьевна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизационные парадигмы в экономической истории России
Статья в выпуске: 2 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются экономические факторы трансформации территориальной системы: межэтническое разделение труда и специфический характер российского колониализма, государственное вмешательство в экономику и противоречивость экономической политики государства и др.
Территориальная система, модернизация, трансформация, российская империя, экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14723534
IDR: 14723534 | УДК: 94:338.2(470+571)
Текст научной статьи Экономическая модернизация и трансформация территориальной системы Российской империи
In article business factors of transformation of territorial system are analyzed: interethnic division of labor and specific character of the Russian colonialism the state intervention in economy and discrepancy of economic policy of the state, etc.
Политико-территориальная организация относится к базовым, наиболее устойчивым элементам формы государства, влияющим на сбалансированность всего государственного механизма.
Составляющими территориальной системы являются [3]:
— территориальный комплекс, характеризующийся способностью к расширению. Оно производится двумя важнейшими способами — внутренней колонизацией и внешней экспансией, которые тесно между собой связаны. Механизм их корреляции зависит от совокупности факторов: 1) стадии развития (в частности, традиционной империи в большей степени присуща внутренняя колонизация, модернизированной — внешняя экспансия); 2) территориальной компоненты государственной идеологии, обосновывающей механизм расширения необходимостью достижения естественных границ; 3) экономической или иной (например, геополитической или геостратегической) целесообразности, т. е. расширение мотивируется получением прибыли или какой-либо иной выгоды; 4) расположения присоединяемых территорий по отношению к ядру; 5) наличия или отсутствия на при- соединяемых землях исторически сложившейся достаточно развитой государственности; 6) характера контактов в зоне расширения (мирное расселение, сопровождаемое культурной ассимиляцией, или вооруженное столкновение, противодействие); 7) единства цивилизационного развития (когда присоединение обосновывается этно-конфессиональными или культурными причинами — например, славянским единством или общим византийским наследием);
— центрально-периферийная конструкция (механизмы взаимоотношений центра и регионов, включающие элементы «обратной» связи);
— системообразующая (государственная, национальная) идея, чаще всего представляющая синтез государственной мифологии, ментальных установок и стереотипов поведения государствообразующего народа.
Устойчивость территориальной системы создает основу для стабильного развития различных общественных сфер, в том числе экономики.
К экономическим факторам трансформации территориальной системы можно отнести следующие.
-
1. Межэтническое разделение труда и специфический характер российского колониализма. А. Каппелер так оценивает эти явления. В сфере промышленного развития процессы индустриализации охватывали как центральные регионы империи, так и ее периферию, при этом большая часть предпринимателей были русскими и иностранцами, а большая часть рабочих — русскими. Возникновение очагов индустрии в периферийных районах вело к интенсификации экономического разделения труда, развитию железнодорожных коммуникаций с центром и к иммиграции в эти районы русских рабочих (за исключением Польши). Вместе с тем промышленные регионы, формирующиеся на окраинах, оказывались более тесно связанными с метрополией и интегрированными в Российскую империю. Аграрный сектор экономики оставался ведущим, при этом традиционное разделение труда между производящей главным образом зерно черноземной зоной и остальными областями, давно уже не имевшими земледельческой ориентации, еще более усилилось. Оценивая промышленность и сельское хозяйство в целом, исследователь подчеркивает, что в XIX в. преимущественно русский центр и часть русского населения переживали ускоренное экономическое развитие. Если индустриализация и поставленное на коммерческую основу сельское хозяйство интенсивно развивались также в некоторых регионах и на западе империи, то традиционный перепад в уровне экономического развития между востоком и западом по-прежнему оставался, хотя и в меньшей мере и не в таком объеме, как прежде. В результате заселенные нерусскими области на востоке страны слабо участвовали в промышленном и аграрно-капиталистическом развитии, что позволило ему сделать вывод о том, что отношения этих регионов с имперским центром имели признаки и черты колониальной экономической системы [4, с. 225—226].
-
2. Значительное государственное в шательство в экономику и противоречивость экономической политики государства. Б. Ананьич и П. Гетрелл отмечают, что имперская политика в экономической сфере зависела от противоборства консервативной и либеральной групп правящей элиты, предлагавших собственные проекты экономического развития страны в новых условиях. Так, российские консерваторы во главе с К. П. Победоносцевым и М. Н. Катковым выступали за программу авторитарной консолидации «национальной промышленности». Основные положения их программы включали: поддержание бумажных денег, протекционистские тарифы, поддержку дворян-землевладельцев, регулирование частного сектора и сохранение традиционной крестьянской общины. Некоторые купцы и предприниматели сознательно исповедовали славянофильские идеалы, основанные на идее особого, непохожего на западный, русского пути промышленного развития. В идеале этот путь должен был привести к резкому уменьшению импорта иностранного капитала и привлечения зарубежных концессионеров. Представители данных предпринимательских кругов, такие как Ф. В. Чижов и П. П. Рябушин-ский, защищали идею «славянофильского капитализма», которая была основана на приверженности устаревшим некорпоративным бизнес-структурам. Либералы, позиции которых с начала 1880-х гг. значительно ослабли, выдвигали достаточно широкую программу экономических реформ, ориентированную на западную модель модернизации, включая привлечение западных инвестиций и интеграцию в мировой рынок. В этих условиях, по мнению исследователей, главным образом при С. Ю. Витте, сложился в основном либеральный, но с оглядкой на консерваторов, экономический курс, предполагающий политику протекциони-
стских тарифов, увеличение налогообложения, введение золотого стандарта (в 1897 г.) и импортирование зарубежного капитала. Он же разработал и идеал имперской экономики: сильная национальная экономика, основанная на интеграции географически, экономически и культурно дифференцированных компонентов, приносящая выгоду всем составным частям этого объединения, а также программа поддержки нарождающейся предпринимательской элиты, которая в значительной степени зависела от патронажа государства. Тем самым, имперская экономическая модель подчеркивает преимущества включения отдельного государства в большое политическое объединение, в котором политическая власть поддерживает рыночные принципы, гарантирует политическую стабильность, поощряет инвестиции и разрешает конфликтные ситуации. Формы имперского патронажа включают образование зон свободной торговли, защиту малого экономического подразделения от иностранной конкуренции, построение соответствующей инфраструктуры и создание и поддержание современной финансовой системы, однотипной денежной единицы и стандартов мер и весов [2, с. 74—76].
Говоря о межэтническом разделении труда, А. Каппелер отмечает, что если в промышленности и сельском хозяйстве динамика в основном сохранялась прежней, то в сфере торговли и кредитных операций она была выражена гораздо более четко за счет значительной роли мобильных групп-диаспор (евреи — 44,8 % всех лиц, занятых в этом секторе, а также со значительным отрывом греки и армяне). И все же, по его мнению, к концу XIX в. их экономическая роль и значение шли на убыль, так как социальная мобилизация других этносов приводила к тому, что они начинали рассматривать преобладание мобильных групп-диаспор в определенных сферах как помеху для собственного социального подъема. Правительство теперь уже не так безусловно рассчитывало на службу прежних групп-диаспор и не гарантировало более сохранение их традиционных привилегий. Кроме того, из социальных и экономических антагонизмов между этносами, состоящими, в основном, из городских и деревенских низов, с одной стороны, и мобильными группами-диаспорами, доминировавшими в торговле, кредитном деле и ремесле — с другой, развивались межэтнические конфликты [4, с. 228—229].
Таким образом, экономическая политика правительства имела достаточно четко выраженную этническую составляющую, которая сказывалась и на изменении характера самой империи — она превращается в колониальную, причем ее колониализм (в том числе экономическая эксплуатация) выражается весьма своеобразно: с одной стороны, он развивается по отношению к восточным окраинам империи, с другой — усиливается в отношении русского населения центра (прежде всего крестьянской общины). Так, А. Эт-кинд отмечает, что если европейские империи эксплуатировали завоеванные территории, извлекая оттуда свои доходы и тратя часть на их усмирение и развитие, то Российская империя, наоборот, предоставляла своим колониям экономические и политические льготы. Со времен Александра I западные владения располагали большими правами и свободами, чем центральные губернии. Крепостное право было ограничено или отменено в Эстонии, Украине, Башкирии раньше, чем у русских крестьян. Ссылаясь на расчеты, сделанные Б. Н. Мироновым, исследователь приводит следующие данные: в конце
XIX в. жители 31 великорусской губернии облагались вдвое большими налогами, чем подданные 39 губерний с преимущественно нерусским населением; соответственно, империя тратила вдвое больше денег на душу населения центральных губерний, чем инородческих; расходы шли главным образом на «управление». Следовательно, большей эксплуатации подвергались центральные районы страны, так как они, соответственно, требовали больших государственных расходов на аппараты управления, принуждения и просвещения [7, с. 278—279]. Все это подчеркивает специфический характер российского колониализма и ставит вопрос о «цене» империи.
По мнению Е. Правиловой, «цена» империи заключается в финансовой эффективности империй как типа государственности, причем континентальная империя отличается в этом плане значительной спецификой. Она состоит в том, что в силу географической сопряженности «метрополии» и окраин правительство вынуждено было решать проблемы поддержания единства экономической системы, несмотря на разнообразие экономик регионов, вошедших в состав империи. Следовательно, в силу территориальной близости и единства границ, а также сознательной централизаторской стратегии правительства, экономическая взаимозависимость центра и окраин была достаточно сильной. Кроме того, на систему экономических отношений центра и окраин накладывала заметный отпечаток российская система власти. Оценивая финансовую эффективность Российской империи, Е. Правилова подчеркивает, что абсолютный приоритет геополитических целей и сильное территориальное расширение способствовали тому, что экономическая целесообразность новоприобретен-ных земель была крайне низкой из-за огромных средств, которые империя была вынуждена тратить на обеспечение их обороны и безопасности, включая содержание многочисленной армии. Лишь со временем, когда укрепились экономические связи окраин с центром, их вклад в государственный бюджет заметно повысился, хотя практически на всех направ- лениях не перекрывал имперских издержек. Соответственно, дополнительные расходы покрывались за счет усиления финансового давления на население центральных губерний [6, с. 115, 117—118, 142—143].
В наибольшей степени противоречивость экономической политики правительства была характерна для сельского хозяйства. Так, по мнению Е. Г. Плимака и И. К. Пантина, «ради фискальных и полицейских соображений царизм до конца 1905 г. сохранял в деревне общину, связав крестьян круговой порукой и властью урядников, сковывая передвижения «беспаспортных» крестьян, отнимая у земледельца из-за систематических переделов земли стимул к поднятию агрикультуры, сужая в стране внутренний рынок». В то же время, в начале XX в. и помещичьи, и крестьянские хозяйства эволюционировали в направлении капитализма («отработки» заменялись наемным трудом, в общине стал намечаться раскол между сельской буржуазией и сельским пролетариатом и т. п.). Но эти процессы, подстегнутые сто- лыпинской реформой 1906—1915 гг., так и не получили завершения [5, с. 244].
Суть реформы, предпринятой П. А. Столыпиным, с точки зрения американского историка А. Ашера, заключалась не просто в разрешении длительного аграрного кризиса, но и в фундаментальном изменении ментальности крестьянства как основной массы населения страны — превращение их в полноценных граждан [1, с. 157]. Следствием реформы стало разрушение традиционного института — крестьянской общины; в качестве побочного следствия, как выше уже отмечалось, можно назвать обострение межэтнических противоречий на окраинах империи, как правило, по экономическим мотивам, в результате их переселенческой колонизации (так называемой «вторичной» колонизации).
Таким образом, капиталистическое развитие, как основа модернизации в экономической сфере, может быть охарактеризовано в рамках предложенной К. Н. Тарновским концепции, согласно которой Россия относится к странам позднего капитализма. Главная особенность эволюции капитализма в них состоит в том, что они не знали четко выраженного капитализма «свободной конкуренции». В капиталистическую стадию они вступили при наличии весьма значительных остатков феодализма, тормозивших социально-экономическое развитие. Ускоренная модернизация потребовала активного вмешательства государства в сферу экономики и массового притока иностранных капиталов [5, с. 246]. Экономическое развитие Российской империи в эпоху ускоренной модернизации конца XIX — начала XX вв. определялось огромной ролью традиционных имперских институтов, что вызвало противоречивость и непоследовательность модернизации, когда постепенное разрушение традиционных отношений (например, в крестьянской общине) не компенсировалось или компенсировалось не в достаточной степени, легализованными и прошедшими некоторый период легитимации институтами и отношениями нового типа, которые могли бы составить социально-экономическую основу модернизированной империи.
Список литературы Экономическая модернизация и трансформация территориальной системы Российской империи
- Ascher, A. P. A. Stolypin. The Search for Stability in Late Imperial Russia/A. P. Ascher -Stanford (California): Stanford University Press, 2001. -484 p.
- Ананьич, Б. Национальные и вненациональные измерения экономического развития России, XIX -XX вв./Б. Ананьич, П. Гетрелл//Ab Imperio. -2002. -№ 4. -С. 67-91.
- Бахлов, И. В. Модернизация, трансформация, транзит в эволюции территориальной системы России/И. В. Бахлов//Научный семинар представительства Отделения общественных наук РАН при Мордовском государственном университете [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://proon.mrsu.ru/seminar.php?tema=2&doklad=8. -Загл. с экрана.
- Каппелер, А. Россия -многонациональная империя. Возникновение. История. Распад/А. Каппелер. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -344 c.
- Плимак, Е. Г. Драма российских реформ и революций (сравнительно-политический анализ)/Е. Г. Плимак, И. К. Пантин. -М.: Весь Мир, 2000. -360 с.
- Правилова, Е. «Цена» империи: центр и окраины в российском бюджете XIX -начала XX вв./Е. Правилова//Ab Imperio. -2002. -№ 4. -С. 115-144.
- Эткинд, А. Бремя бритого человека, или внутренняя колонизация России/А. Эткинд//Ab Imperio. -2002. -№ 1. -С. 265-297.