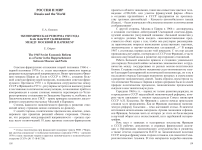Экономическая реформа 1965 года как фактор сближения между Москвой и Парижем
Автор: Осипов Евгений Александрович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 53, 2017 года.
Бесплатный доступ
Советско-французские отношения второй половины 1960-х - первой половины 1970-х гг. стали началом и символом разрядки международной напряженности. Для Франции одним из оснований развития экономического сотрудничества с СССР стала оценка французскими экспертами экономической реформы, которую советское правительство начало осуществлять в 1965 г. Эта оценка всесторонне отражена в документах, хранящихся в настоящее время в Архиве экономики и финансов Франции. Автор использовал эти документы как исторический источник впервые во французской и российской историографии. Анализ этих документов впервые раскрыл мнение французских экспертов по советской экономике о замысле экономической реформы 1965 г., о первых шагах и первых трудностях в ее осуществлении, а также о перспективах ее реализации. Судя по этим документам, во Франции внимательно следили за ходом экономической реформы, проводимой премьер-министром СССР А.Н. Косыгиным, и готовились к серьезному изменению советской экономической политики, особенно во внешней торговле. Они уверенно предполагали, что советская экономика станет более открытой для западных товаров и технологий. В этом случае французское правительство рассчитывало воспользоваться налаженными политическими связями с СССР, чтобы утвердиться на рынке Восточной Европы и успешно конкурировать там с ФРГ. В то же время французские эксперты скептически относились к перспективам и долгосрочным последствиям экономической реформы 1965 г. Хотя эксперты были уверены в том, что в середине 1960-х гг. сложились благоприятные условия для активизации экономического сотрудничества Франции с СССР, они прозорливо предупреждали, что французскому правительству действовать надо быстро, поскольку эти условия в будущем могли измениться в худшую сторону.
Холодная война, разрядка международной напряженности, советско-французские отношения, внешняя торговля, международное экономическое сотрудничество, экономическая реформа 1965 г., организация североатлантического договора (нато), н.с. хрущев, л.и. брежнев, шарль де голль, а.н. косыгин
Короткий адрес: https://sciup.org/14913819
IDR: 14913819
Текст научной статьи Экономическая реформа 1965 года как фактор сближения между Москвой и Парижем
Е. Osipov
The 1965 Soviet Economic Reform as a Factor in the Rapprochement between Moscow and Paris
Советско-французские отношения второй половины 1960-х -первой половины 1970-х гг. стали настоящим символом периода разрядки международной напряженности. Визит президента Франции генерала Шарля де Голля в СССР в 1966 г, создание Большой советско-французской комиссии, подписание советско-французского Протокола 1970 г. и Принципов сотрудничества между СССР и Францией в 1971 г, регулярные встречи на высшем уровне и постоянные политические консультации, позволившие прийти к компромиссам в самые сложные моменты переговоров по Четырехстороннему соглашению по Западному Берлину и, особенно, по Заключительному акту СБСЕ - яркие примеры успешного двустороннего сотрудничества между Москвой и Парижем.
Степень важности экономического фактора в развитии отношений между странами можно оценивать по-разному.
С одной стороны, политические предпосылки, конечно, доминировали при принятии решений обеими сторонами. Очевидно, что разрядка международной напряженности - процесс прежде всего политический. И даже крупные советско-французские проекты в области экономики, такие как совместное цветное телевидение «СЕКАМ» или участие французской фирмы «Рено» в создании крупнейшего в СССР предприятия по производству грузовых автомобилей - Камского автомобильного завода (Камаз), - были изначально обусловлены именно политическими соображениями1.
С другой стороны, Москва и Париж в 1966 г. договорились о создании постоянно действующей Смешанной советско-французской комиссии (получившей название «Большой комиссии»), в которую должны были входить «высокопоставленные представители обеих стран с тем, чтобы она регулярно рассматривала практические вопросы выполнения существующих торговых, экономических и научно-технических соглашений...»2 В январе 1967 г. состоялась первая сессия этой комиссии. С тех пор сессии проводились регулярно, поочередно в СССР и во Франции, и часто вносили ощутимый вклад в развитие двусторонних отношений.
Работа Большой комиссии привела к созданию уникального для периода Холодной войны механизма экономического сотрудничества между государствами из разных военно-политических блоков. Создание подобного механизма стало возможным не только благодаря благоприятной политической конъюнктуре, но и не в последнюю очередь благодаря взаимному интересу и стремлению к развитию экономических связей. Таким образом, несмотря на то, что сближение Москвы и Парижа в период разрядки было по своей природе политическим процессом, экономические предпосылки сыграли в нем значительную роль.
Середина 1960-х гг. - период не только развития разрядки, но и проведения в СССР масштабной экономической реформы, которую часто связывают с именем председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина. Во Франции с самого начала пристально следили за ее проведением. Как во Франции оценивали экономическую реформу Косыгина - тема настоящей статьи. В качестве источников использованы материалы Архива экономики и финансов Франции, большая часть из которых до этого не была введена в научный оборот ни в отечественной, ни в зарубежной историографии.
Речь идет о записках и телеграммах посольства Франции в СССР, рабочих документах и справках французской делегации в Организации экономического сотрудничества и развития, а также отчетах подкомитета НАТО по экономической политике СССР, которые французская сторона готовила для саммитов Североатлантического Альянса. В этих материалах подробно анализи- руется каждый аспект реформы. Так, в одном из рабочих документов Организации экономического сотрудничества и развития от 22 января 1969 г. подобное внимание к экономической политике СССР в Пятой республике объяснялось, во-первых, размерами советской экономики - второй экономики мира, а, во-вторых, степенью влияния Москвы на страны Восточной Европы, что было особенно важно для Парижа3.
Один из главных мотивов для реализации политики разрядки для де Голля состоял как раз в том, чтобы, воспользовавшись налаженными политическими связями с СССР, утвердить французские интересы на рынке Восточной Европы и навязать там конкуренцию ФРГ4.
В упомянутом документе экономическая реформа 1965 г. названа одним из самостоятельных этапов развития советской экономики, наряду с Военным коммунизмом, НЭПом и периодом централизованного планирования (так в тексте называется весь сталинский период, при этом индустриализация и коллективизация не выделяются в качестве отдельных периодов в истории советской экономики)5. Более того, реформа вписана в более широкий контекст. Если ее начало отнесено к 1965 г, как и принято в современной российской историографии, то подготовка к ней началась значительно раньше, еще с 1960 г, когда стартовал первый этап реформы ценообразования. До 1960 г. «система планирования была ориентирована на количественные показатели, и цены, соответственно, играли второстепенную роль. И, напротив, они приобрели первостепенное значение с того момента, как началось внедрение экономических и торговых механизмов по измерению показателей эффективности и их сравнению»6.
Таким образом, постепенный отход от количественных показателей при планировании, по мнению французских экспертов из Организации экономического сотрудничества и развития, начался еще в 1960 г. Первый этап реформы ценообразования продолжался пять лет (1960-1965 гг.) и состоял главным образом во введении понятия «прибыль». Средняя цена на товар отныне учитывала маржу в 12-15 % по сравнению со стоимостью производства, которая после произведения обязательных выплат в пользу государства составляла фонд предприятия. Подобная система, по мнению экспертов, имела ряд проблем. Во-первых, повсеместное использование «средней» цены не позволяло реализовать преимущества конкретных предприятий и, соответственно, не стимулировало рост производительности. Во-вторых, «расчет стоимости производства не учитывал вложенный капитал и искажал показатели рентабель- ности предприятий»7. Таким образом, реформа ценообразования, начавшаяся в 1960 г, предвосхитила собственно экономическую реформу 1965 г, которая должна была устранить выше перечисленные проблемы советской экономики.
Пристальное внимание в документах уделяется и советской реформе 1963 г, когда после попытки укрупнения совнархозов в итоге был воссоздан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). В записке французского посольства в СССР от 20 марта 1963 г. эта реформа оценивается как постепенное признание ошибочности политики Н.С. Хрущева по созданию совнархозов в 1957 г. и возвращение к прежней практике централизованного управления промышленностью, которое существовало до прихода Хрущева к власти. В документе отмечается, что после 1963 г. «союзные структуры, такие как ВСНХ, Госплан и Госстрой, получили полномочия прямого руководства над региональными совнархозами»8, что делало очевидным значение реформы.
Косвенным подтверждением этого было сочтено возвращение Н.К. Байбакова на руководящие должности. В 1958 г. Байбаков, не согласный с планами Хрущева по децентрализации управления промышленностью, был переведен с поста председателя Госплана СССР на второстепенную должность председателя Краснодарского совнархоза. Однако, в 1963 г. он стал председателем Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР, имевшем стратегическое значение, а с 1965 г. снова возглавил Госплан СССР. То, что Байбаков был одним из ближайших соратников Косыгина, также отмечалось в документе9.
Таким образом, анализ действий советского руководства привел французских экспертов к заключению, что Косыгинская реформа 1965 г. была подготовлена еще событиями 1960 и 1963 гг., и даже составляла в совокупности с ними самостоятельный период в истории развития советской экономики.
Главной причиной, заставившей советское руководство пойти на проведение реформ, авторы отчета подкомитета НАТО по экономической политике СССР от 4 мая 1966 г. называют заметное замедление темпов роста советской экономики (в 1959-1965 гг. ее годовой рост составил по официальным данным 6,6 % вместо запланированных 7,1-7,4 %, а по западным источникам - всего 5 %), связанное прежде всего с неудачами в развитии сельского хозяйства10. При этом в западных странах, в том числе и в США, рост, наоборот, ускорился.
В качестве еще одной причины реформы указывалось то, что впервые за долгое время в СССР к принятию экономических решений стали привлекать экспертные группы ученых. В одной из аналитических записок Организации экономического сотрудничества и развития отмечается, что «в сталинскую эпоху критерии планирования разрабатывались исключительно администрацией; экономисты о них не знали и, соответственно, не имели никакой возможности их обсуждать или анализировать. Впоследствии же информация стала более многочисленной и точной: экономическая ситуация могла теперь быть изучена экономистами, независимыми от Госплана. Их исследования быстро привели к критике существующих механизмов и к разработке предложений по ревизии [Существующей системы. - Е.ОД, некоторые из которых в итоге были приняты»11.
Помимо экспертных групп в одной из дипломатических записок посольства Франции в СССР от 14 февраля 1959 г. обращалось внимание на другое обстоятельство: в первые годы нахождения Хрущева у власти в СССР появилось сразу несколько новых научных экономических центров, что позволило существенно расширить масштаб экономических исследований в стране. Если до этого существовал только Институт экономики РАН, то теперь начали свою работу Институт международной экономики и международных отношений РАН (1956 г), Научно-исследовательский экономический институт при Госплане СССР (1955 г.) и Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН (1957 г.)12.
Также в документах отмечалось, что в целом «более свободная интеллектуальная атмосфера» в СССР после смерти Сталина позволила более открыто критиковать недостатки плановой экономики в СССР, а значит, тоже способствовала проведению серьезных реформ13.
Экономическая реформа 1965 г, на взгляд французских экспертов, должна была реализовываться в трех направлениях. Во-первых, выстраивание иерархии органов планирования и перераспределение компетенций между ними с целью упрощения процедуры. Иными словами, речь шла о полноценном восстановлении отраслевого (централизованного) метода управления промышленностью. Во-вторых, изменение системы ценообразования - упразднение фиктивных, то есть установленных с помощью внеэкономических и субъективных критериев, цен. В-третьих, совершенствование принципов работы предприятий с целью повышения производительности труда и увеличения заинтересованности предприятий в техническом прогрессе и качестве производимой ими продукции14. Работа по этим трем направлениям должна была привести к решению двух главных задач реформы: «с одной стороны упрощение работы аппарата планирования, чья сложность угрожала его парализовать, с другой стороны, расширение полномочий предприятий»15.
В архивных документах неоднократно отмечается, что реформа носила действительно масштабный характер, и реализовать ее в полной мере было очень сложно. Выделялись три главных проблемы реформы, от решения которых зависел ее успех: проблема плановых показателей, вопрос прибыли (стимулирования предприятий) и трудности переходного периода.
Что касается плановых показателей, то французские аналитики из Организации экономического сотрудничества и развития утверждали, что «вопреки распространенному на Западе мнению, советские предприятия никогда не были полностью лишены инициативы и не были подчинены всеобщему контролю»16. Однако всю имевшуюся у них автономию предприятия тратили на «совмещение своих интересов с требованиями, которые им выдвигались. Распределяя свои усилия, предприятия стремились получить те плановые задания, которые было легко выполнить и перевыполнить, ограничивая при этом свою “сверхпроизводительность”»17, чтобы в будущем не получить более высоких плановых требований. В конечном счете, прямо или косвенно, плановые показатели предопределяли всю деятельность предприятия. Частичное их упразднение в результате экономической реформы 1965 г, особенно отход от количественных критериев, создавало новую ситуацию в советской экономике и сильно повышало значимость такого фактора, как прибыль.
Составители документов подробно анализировали разницу в определении термина «прибыль» в СССР и на Западе, обращая внимание на сложность реализации этой части реформы. В частности, отмечалось, что если в СССР прибыль равна разнице между ценой на товар и себестоимостью, а цены директивно устанавливаются государством, то единственная возможность увеличения прибыли - снижение стоимости производства, то есть снижение качества, что противоречило цели реформы. В совокупности с жесткой регламентацией распределения доходов внутри предприятия, все это делало задачу повышения заинтересованности предприятий в результатах своего труда сложно выполнимой18.
Реформа реализовывалась постепенно, в несколько этапов. Еще в 1964 г. в качестве эксперимента на новый режим работы перешли два предприятия по производству одежды, а в 1965 г. -несколько сотен текстильных фабрик. Масштабные перемены начались только в 1966 г, когда под действие реформы попали уже более 700 предприятий. А в 1967 г. на новый режим перешли уже целые отрасли экономики (в сумме 7 тысяч предприятий, на которых работало около 10 млн человек)19.
Масштабная реформа советской экономики оценивалась во Франции со сдержанным оптимизмом.
Так, вполне положительно оценивалось изменение системы ценообразования. Пересчет цен с целью повышения рентабельности предприятий привел к их росту в среднем на 10-11%. И если критерии ценообразования в СССР по-прежнему оставались «неясными и по меньшей мере спорными», все же реформа стала важным шагом к «более обоснованным ценам, что, в свою очередь, стимулировало повышение рентабельности предприятий»20.
Положительные изменения произошли и в сфере зарплат. Предприятия получили возможность варьировать величину зарплат, что повышало их роль в экономике в целом и позволяло лучше стимулировать работников. Благодаря реформе, в СССР выросла средняя зарплата (в 1967 г. рост составил 4 %)21. А в одной из телеграмм французского посольства в Москве, отправленной в Париж в декабре 1966 г, указывалось, что в СССР сохраняется традиционная для страны «трилогия целей развития экономики - «увеличение экономического потенциала страны, развитие средств обороны, улучшение качества жизни населения, но акцент сделан на последнем»22.
Неоднократно во французских документах экономическая реформа 1965 г. сравнивалась с НЭПом. Аналитики из Организации экономического сотрудничества и развития отмечали, что при проведении реформы учитывался опыт НЭПа, «хотя до 1966 г. ленинские методы управления экономикой не признавались и не применялись»23. При этом, речь шла «не о возвращении к практике 20-х гг. XX века, а о создании условий, позволяющих промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и торговле работать эффективнее»24. Вообще, для французских, как и в целом для западных, специалистов по СССР, было характерно регулярное противопоставление политики Ленина и Сталина с явным предпочтением в пользу первого.
Для Франции пристальное внимание к совершавшимся в СССР экономическим преобразованиям имело явный прикладной характер. Де Голль и его окружение не сомневались, что развитие отношений с СССР необходимо Франции для отстаивания ее интересов и независимости25.
Заметное улучшение климата советско-французского сотрудничества началось еще в 1964 г, когда во время визита в Париж министра внешней торговли СССР Н.С. Патоличева было подписано первое межгосударственное соглашение26.
Но для подлинного прорыва в двусторонних отношениях нужен был серьезный импульс. Если в политическом смысле таким импульсом стал выход Франции из военной организации НАТО в 1966 г. и, в целом, начало разрядки международной напряженности, то в экономической сфере как раз проведение в СССР масштабных реформ стало одним из главных факторов в создании того самого уникального для Холодной войны механизма экономического сотрудничества между Москвой и Парижем.
В одной из справок подкомитета НАТО по экономической политике СССР от 4 мая 1966 г, то есть всего за несколько недель до легендарного визита президента Франции Шарля де Голля в СССР27, отмечалось, что «при условии преодоления бюрократического сопротивления результаты работы предприятий могут быть улучшены благодаря введению стимуляторов, основанных на более рациональных показателях прибыли и благодаря мерам, открывающим для предприятий более широкие возможности для инициативы»28. В целом, в документе отмечалось, что предпринимаемая в СССР реформа представляет собой «самую серьезную попытку заинтересовать промышленность в результатах своего производства и заставить предприятия учитывать интересы потребителей»29.
Для Франции особенно важным стало то, что в экспертных заключениях подкомитета НАТО по экономической политике СССР в мае 1966 г. был сделан следующий вывод: «Несмотря на то, что реформа не сильно затрагивает вопросы внешней торговли, есть основания полагать, что поиск экономической эффективности приведет советское руководство к пересмотру своей политики в этой области <...> и к серьезным последствиям, которые изменят структуру и географию советской внешней торговли»30.
С середины 1960-х гг. начали происходить серьезные изменения в советской внешней торговле, во французских документах даже сообщалось о «торговом возрождении СССР»31. Внешняя торговля перестала играть роль «простого регулятора плана» и превратилась в «фактор ускорения экономического роста»32. Эти изменения были закреплены на XXIII съезде КПСС, за ходом которого во Франции очень внимательно наблюдали. Особый интерес французов к съезду объяснялся тем, что он прошел в марте-апреле 1966 г, то есть непосредственно перед визитом де Голля в СССР.
Изменение концепции внешней торговли СССР в середине 1960-х гг. связывалось с тем, что новое руководство советской экономики во главе с Косыгиным осознало, что СССР в своем развитии достиг уровня, преодолеть который невозможно без иностранной помощи и что для сокращения отставания в промышленном развитии Москве необходимо в торговле с западными странами отойти от простого обмена товарами в пользу подлинного технологического сотрудничества»33.
Для Франции подобные изменения в СССР были выгодны, поскольку в Пятой республике в то время как раз активно разрабатывались проекты по технологическому сотрудничеству со странами Восточной Европы. Ярким примером этого стало то, что в 1966 г. французский автогигант «Рено» договорился с правительством Румынии о создании в стране завода «Дачия», начавшего впоследствии производить в больших объемах не только уже существовавшие к тому времени модели «Рено», но и новые модели, ориентированные на восточноевропейский рынок. Учитывая, что до этого западные фирмы в основном ограничивались лицензионным производством своей продукции на территории стран «соцлагеря», можно сказать, что французы произвели революцию в торговле между двумя блоками.
В середине 1960-х гг. изменилась не только концепция, но и формат внешней торговли СССР. В 1965 г. с целью улучшения торговых показателей начался процесс создания двусторонних экономических комиссий с развивающимися странами. Первой такой страной стал Египет, впоследствии были созданы двусторонние комиссии с Ираном и Индией. Во французских документах отмечалось, что СССР создавал комиссии со странами, «которые уже имели или стремились к тесному экономическому сотрудничеству с Западной Европой»34. Таким образом, перед визитом де Голля в СССР, то есть в начале реализации масштабных преобразований, сложился благоприятный фон для будущего прорыва в советско-французских экономических отношениях, и создание Большой комиссии по итогам визита стало логичным следствием постепенного сближения двух стран еще с 1964 г.
Если первые результаты экономических преобразований в СССР и их масштаб оценивались экспертами во Франции положительно, то в долгосрочной перспективе прогноз был гораздо более пессимистичным.
Так, в уже упоминавшемся отчете подкомитета НАТО по экономической политике СССР от 4 мая 1966 г. отмечалась уверенность экспертов в том, что СССР не сможет придать своей экономике необходимую эффективность и гибкость без, по меньшей мере, тех глубинных изменений, которые уже происходили в тот момент в Югославии. Советские же преобразования уступали реформам в Югославии, где, по мнению французских аналитиков, была создана «квази-либеральная» экономика35.
В документах прозорливо отмечалось, что при реализации масштабных преобразований «советское руководство в какой-то момент окажется перед фундаментальным выбором: продолжать движение по пути к рыночной экономике или нет»36 и, скорее всего, выберет второе. И снова реформа 1965 г. сравнивалась с НЭПом, при котором введение элементов рыночной экономики соседствовало с сохранением «командных высот в экономике» за государством. Так же и в 1960-е гг.: положительный эффект от повышения заинтересованности предприятий в результатах своего труда во многом нивелировался сохранением централизованной системы планирования.
В целом, французские аналитические документы по советской экономике показывали, что в середине 1960-х гг. сложились благоприятные факторы для резкой активизации экономического сотрудничества между СССР и Францией, но при этом предупреждали, что действовать надо было быстро, поскольку эти факторы в будущем могли измениться.
Потенциал у советско-французского экономического сотрудничества действительно был серьезным. Помимо благоприятной политической конъюнктуры и структурного сходства советской и французской экономик (большой государственный сектор), советско-французские экономические связи строились на идее взаимодополняемости. В СССР большее внимание уделялось фундаментальным исследованиям, а во Франции лучше были развиты прикладные направления, что как раз и составляло основу взаимного интереса Москвы и Парижа к развитию двустороннего экономического сотрудничества37.
Таким образом, масштабные экономические преобразования в СССР в середине 1960-х гг, находившиеся под пристальным вниманием французских специалистов по СССР и советской экономике, в совокупности с политикой разрядки международной напряженности позволили качественно преобразовать советско-французские экономические связи. Из документов французских архивов становится понятным, что в Пятой республике скептически относились к перспективам и долгосрочным последствиям экономической реформы 1965 г. в СССР, однако, положительно оценивали ближайшую перспективу, особенно в том, что касалось большей открытости советской экономики в сторону западных стран и технологий.
Неслучайно, что как раз в первые восемь лет после начала реализации реформы и визита Шарля де Голля в СССР, ставшего символом эпохи разрядки, товарооборот между Францией и СССР увеличился в четыре раза и был реализован ряд очень крупных совместных проектов.
Список литературы Экономическая реформа 1965 года как фактор сближения между Москвой и Парижем
- Rey M.-P. Les fruits de la détente dans les relations franco-soviétiques//Relations internationales. 1986. № 45. P. 67-85;
- Vaisse M. La grandeur: Politique étrangère du général de Gaulle. Paris, 2013. P. 414-434.
- Centre des Archives Economiques et Financières (CAEF). B 44151. Organisation de cooperation et de developpement economiques. Groupe de travail du comité des echanges. Note du Secrétariat. 22.01.1969.
- Čech L. Nemecká spolková republika a jej zahraničná politika v rokoch prvej a druhej vlády "malej koalície" (1969 -1974). Bratislava, 2014, pp. 30-32.
- Канинская Г.Н. Русское прошлое одного левого голлиста: Лео Амон (1908 -1993)//Диалог со временем. 2017. № 60. С. 108.
- Дубинин Ю.В. Еще раз о «Европе от Атлантики до Урала»//Новая и новейшая история. 2008. № 2. С. 105-108;
- Осипов Е.А. Помпиду -Брежнев: Документы из французских архивов//Международная жизнь. 2011. № 4. С. 106-121.
- Арзаканян М.Ц. Великий де Голль: «Франция -это я!». М., 2012. С. 383-389;
- Липкин М.А. Визит Шарля де Голля в Советский Союз и вопросы внешнеполитической стратегии Москвы в 1966 -1969 гг.//Quaestio Rossica. 2016. № 4. С. 261-274.