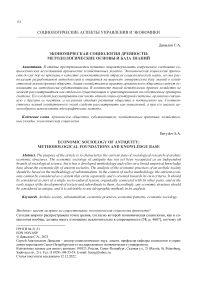Экономическая социология древности: методологические основы и база знаний
Автор: Давыдов Сергей Анатольевич
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики
Статья в выпуске: 1 (139), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка охарактеризовать современное состояние социологических исследований архаических хозяйственных укладов. Экономическая социология древности до сих пор не признана в качестве самостоятельной отрасли социологической науки, но она располагает разработанной методологией и опирается на широкую эмпирическую базу знаний о хозяйственной жизни древних обществ. Анализ хозяйственных практик архаического общества следует основывать на методологии субстантивизма. В контексте такой методологии древнее хозяйство не может рассматриваться как отдельно существующая и ориентированная на собственные критерии система. Его следует рассматривать как часть единой социо-культурной системы, органично связанную с другими ее частями, а на ранних стадиях развития общества и подчиненную им. Соответственно, всякий хозяйственного уклад следует рассматривать как уникальный, а при его анализе целесообразно использовать идеографические методы.
Архаическое общество, субстантивизм, хозяйственные практики, хозяйственные уклады, экономическая социология
Короткий адрес: https://sciup.org/148326193
IDR: 148326193
Текст научной статьи Экономическая социология древности: методологические основы и база знаний
Введение: имеет ли право на существование экономическая социология древности?
Сегодня широко распространена точка зрения, согласно которой экономическая социология, как и социология вообще, должна иметь отношение исключительно к современности [58, р. 4607], поэтому ей
ГРНТИ 04.21.51
EDN NOVASP
Сергей Анатольевич Давыдов – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Статья поступила в редакцию 12.12.2022.
не следует углубляться в историю для изучения хозяйственных практик прошлого. Это мнение проистекает из того обстоятельства, что экономическая социология изначально была ориентирована на исследование закономерностей формирования и функционирования хозяйства индустриального общества, являвшегося «современным» на момент начала его изучения.
Однако подобная позиция не кажется безупречной, поскольку сталкивается с двумя контраргументами:
-
• с одной стороны, изучаемая современность становится историей уже к моменту завершения сбора данных и, уж конечно, становится ею по окончании процесса их теоретической интерпретации. И дело здесь не только во времени, которое неизбежно должно пройти с начала научной работы и до ее завершения. Бывает, что за это время наблюдаемый объект претерпевает существенные изменения, притом нередко под непосредственным воздействием самого процесса социологического исследования. В этих случаях собранные на первоначальном его этапе данные не могут репрезентировать «новое» состояние исследуемого объекта и способны представлять его прежнее состояние, ставшее уже «историей». Но если исследования «современности» в принципиальном плане столь же историчны, что и исследования прошлого, то они мало чем должны отличаться и с точки зрения возможности применения аналитических инструментов экономической социологии;
-
• с другой стороны, важным требованием к эконом-социологическому анализу является соотнесение его результатов с идеями классиков социологии, которые, в свою очередь, нередко обращали свой взор к прошлому. Действительно, сегодня едва ли можно вспомнить фундаментальный социологический труд, автор которого не исследовал бы глубокие слои исторической реальности либо непосредственным образом, либо же не обращался к историческому опыту для лучшего понимания современности. Во многих работах кросс-исторический анализ представлен настолько развернуто, что составлял основную канву исследования, что находило свое отражение даже в названии произведений. Взять хотя бы «Историю хозяйства» М. Вебера [10], «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса [24], «Этюды по истории развития экономического человека» В. Зомбарта [15], «Исследование по социологии короля и придворной аристократии» Н. Элиаса [45] и многие другие сочинения. Авторы этих исследований фокусировали свое внимание на типичных для экономической социологии проблемах, анализируя экономические процессы, институты, структуры и смыслы социального и экономического действия. Но при этом они не ограничивали себя узкими временными рамками «современности», охватывая широкую ретроспективу архаичных культур, ранних государств и античного мира, эпохи Средневековья и Возрождения, периода становления капитализма. Тем самым, сложившаяся в науке традиция не отрицает возможности осмысливать историю хозяйства с помощью аналитических инструментов экономической социологии.
Если принять во внимание оба этих соображения, то может показаться даже странным, что изучающим хозяйственные уклады прошлого эконом-социологам до сей поры приходится доказывать правомерность использования в своей работе социологических инструментов, а то и вовсе свою принадлежность к стану социологов. Впрочем, это неудобство не стало непреодолимым препятствием для проведения социологами кросс-исторических исследований развития хозяйства, оно не стало ограничением для формирования социологического взгляда на этот интересный предмет. В фокусе внимания эконом-социологов оказались и хозяйственные практики древности – те, что сложились в недифференцированных обществах номадов и ранних земледельцев, в вождествах и ранних государствах.
Выработка подхода к пониманию хозяйственной мотивации и хозяйственных практик в древности Уже в первых социологических работах по истории хозяйства древних обществ была развернута дискуссия по методологическим вопросам исследования. Особое место в дискурсе занял один из ключевых вопросов экономической социологии – вопрос о том, какие способы объяснения экономического действия и хозяйственных практик прошлого следует принять как адекватные.
Глядя в ретроспективу, основатели экономической социологии не могли игнорировать содержание тех социально-экономических процессов, которые протекали на их глазах в развитых странах Европы и Северной Америки. С начала XIX века здесь все более отчетливо проявляла себя тенденция подчинения всех сторон общественной жизни экономике, что повлекло за собой коренную перестройку всех общественных институтов, слом этических норм и революцию в хозяйственной мотивации. Наступало время, когда экономические критерии становились основными при выработке решений в сфере семейных и дружеских отношений, в сфере социальной защиты, охраны здоровья, науки, культуры и творчества. В новой реальности не оставалось места докапиталистическому человеку, который, по словам Вернера Зомбарта, «еще не балансирует на голове и не бегает на руках как это делает экономический человек наших дней» [15, с. 12].
Экономическое мышление стало господствующим, а потому могло восприниматься как имманентно свойственное человеку. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что в научной литературе того времени была широко распространена точка зрения об относительной неизменности во времени основных характеристик «экономического человека» с его эгоизмом, рационализмом, независимостью и осведомленностью. Подобных воззрений придерживались многие социологи-позитивисты [100, р. 60], марксисты [23, с. 6], представители социетального направления в экономической теории. Некоторые из них попросту приписывали архаическому хозяйствующему агенту черты «экономического человека» без каких бы то ни было обсуждений, иные сопровождали их разъяснениями, но только в том плане, что черты «экономического человека» являются врожденными, в силу чего имманентно свойственны человеческой природе [36].
Однако попытки проецирования подобных представлений на эмпирические данные об архаических хозяйственных практиках приводили к тому, что теоретически выстроенные представления о них были далеки от наблюдаемой реальности. Так, обнаружилось, что хозяйственный агент архаического общества в своих установках и стереотипах действия совсем не походил на модельного «экономического человека», а развитие хозяйственных систем древности не могло быть объяснено построениями классической экономической теории.
К примеру, выяснилось, что первобытные номады в отличие от людей эпохи капитализма, судя по всему, не осознавали дефицита ресурсов жизнеобеспечения [35, с. 22]. Напротив, они пребывали в состоянии «первобытного изобилия», проистекающего из их представлений о доступности всех необходимых для жизни благ [35, с. 19-20]. Хозяйственный расчет имел место и у них [84, р. 243-244], но он не был ориентирован на накопление, напротив, человек стремился рациональным образом избавить себя от лишнего имущества и пожитков [70, р. 86-87], чтобы не стеснять себя в передвижении [108, р. 136-137]. Подлинное же богатство для него составляли, прежде всего, неисполненные обязательства людей, попавших от него в зависимость [31, с. 29].
По мере усложнения архаического общества и его перехода к производящему хозяйству человек переосмысливал значение хозяйственных благ. Но он лишь немногим и лишь отчасти приблизился к модели «экономического человека». Рационализм не был ему чужд. Но в своей хозяйственной деятельности он руководствовались отнюдь не соображениями экономического эгоизма. Он стремился к другому – повысить свой социальный статус и по возможности закрепить его за собой и за своим потомством. В этих целях хозяйствующий субъект зачастую совершал абсолютно алогичные действия при их рассмотрении с точки зрения классической экономической теории. Например, он совсем не был независим в принятии хозяйственных решений [22, с. 710], мог неделями пребывать в праздности [81, р. 37] или, наоборот, в иных случаях производить продукцию, объем которой значительно превышал необходимый для его личного потребления и потребления его семьи [20], проявлять необузданную расточительность [83, 113].
-
К . Поланьи писал в связи с этим, что «гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря … пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. Истории этнографии известны различные типы экономик, большинство из которых включает в себя институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком» [32, с. 56].
Очевидно, широкое распространение в архаическом обществе не вписывающихся в модельные представления классической экономической теории образов хозяйственного действия наряду с наличием в нем успешных хозяйственных структур требовали создания альтернативной методологической основы для адекватной теоретической интерпретации хозяйственных укладов древности. Первые шаги к ее выработке были сделаны в рамках классической немецкой социологии. Например, Ф. Теннис подвергал сомнению универсализм экономической мотивации и выдвигал требование учитывать значение человеческой воли в принятии хозяйственных решений [38, с. 33]. М. Вебер утверждал, что современный ему капитализм стал следствием развития «в первую очередь … капиталистического духа» [11, с. 24], чем имплицитно отрицал неизменность и врожденность капиталистической мотивации, вдохновляя исследователя уделять особое внимание поиску адекватного реальности образа мотивационной структуры архаического человека.
Чуть позже в этом направлении был сделан еще один важный шаг, связанный с возникновением и развитием неоэволюционизма. Рассматривая социальное развитие как качественное преобразование общества, выражающееся, прежде всего, в усложнении его структуры [30], неоэволюционисты при определении места всякого конкретного общества на шкале развития отводили его экономическим параметрам явно второстепенное значение. Главными здесь становились его структурные характеристики, отражающие сложность его социальной организации [97]. Одновременно этот структурный критерий принимался в качестве системообразующего, что прочно увязывало изменения во всех сферах экономической, социальной и культурной жизни со структурными изменениями в обществе [54, 95]. Несложно увидеть, что неоэволюционизм открыл перед исследователями возможность выйти за пределы эконом-детерминистских представлений в анализе хозяйственных систем, объясняя их развитие, прежде всего, усложнением социальной структуры архаического общества. А это давало исследователю необходимые основания для поиска причин становления и развития раннего производящего хозяйства уже за пределами собственно экономической сферы, а при его исследовании использовать приемы анализа, выходящие за рамку привычного для экономиста набора методов.
Основываясь на таком понимании, антропологи пришли к мнению о том, что при проведении исследований архаического хозяйства необходимо сделать теоретический выбор «между готовыми моделями ортодоксальной экономики…, с одной стороны, и с другой – убеждением, исходящим из посылки, что формализм недостаточно основателен и что необходима разработка новых аналитических методов, которые в большей мере бы подходили к историческим обществам, изучаемым антропологически, и в большей мере бы соответствовали интеллектуальной истории Антропологии» [35, с. 16]. Сделав такой выбор и встав на путь субстантивизма, исследователь приходил к мысли, что хозяйственная мотивация архаического человека не может быть принята априорно, а всякий раз нуждается в отдельном и самом тщательном исследовании.
Также для него стало важным рассматривать хозяйственную систему древности не как отдельно существующую и ориентированную на собственные критерии, а скорее как часть единой социо-культурной системы, органично связанную с другими ее частями, а на ранних стадиях развития общества и подчиненную им. В любом случае, изучение ранних хозяйственных практик может проводиться только в тесной связи со структурным анализом архаического общества, изучением обычаев и верований первобытных людей, выработкой понимания стереотипов восприятия ими окружающей реальности. Стало ясно, что исследователь хозяйственных укладов архаических обществ должен быть готов к тому, чтобы с головой погрузиться в изучение культур, столь непохожих на привычную ему культуру, чтобы понять их и глубоко прочувствовать.
Данные и способы их интерпретации
Методологические посылки субстантивизма оказались восприняты историками, антропологами и социологами. И к началу XXI века наука стала располагать корпусом изданий, содержащих богатые натурные данные и интересные эмпирические обобщения о хозяйственных укладах древности. В их ряду стоят, с одной стороны, опубликованные литературные памятники и скрупулезные описания археологических артефактов и антропологических наблюдений, а, с другой – результаты интеллектуальной работы, связанной с их анализом и интерпретацией.
Так, важными источниками первичной социологической информации о хозяйственной жизни первых государств стали ранние письменные источники и литературные памятники. Многие из них были переведены на европейские языки и опубликованы в академических изданиях. Благодаря этому они оказались доступными для социолога, не владеющего древними языками. Многие древние рукописи оказались переведенными и на русский язык. Они были собраны и сопровождены ценными комментариями в хрестоматиях. Наиболее весомыми из них являются: История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: Высшая школа, 2002; Хрестоматия по истории Древнего Востока: 2-х частях / под ред.
М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1980; Хрестоматия по истории древнего мира. М.: Учпедгиз, 1950; Хрестоматия по истории Древнего мира / под ред. Е.А. Черкасовой. М.: Просвещение, 1991 и др. Эти издания содержат бесценный фактический материал, способный не только сформировать априорные представления о ранних хозяйственных практиках, но и быть проанализированным с помощью социологических методов качественного и качественно-количественного анализа текстов.
Важную роль в социологическом исследовании раннего хозяйства сыграли описанные в научной литературе археологические данные, а также апробированные способы их социологической интерпретации. Хорошим подспорьем для социолога здесь стали работы зарубежных исследователей М.Д. Коя [55, р. 117–146], Г. Пачура [89, р. 13–32], Г. Ротерта [93, р. 609–635], М. Стирлинга [103, р. 138], К.В. Фланнери и Дж. Маркуса [68], Дж. Хардоя [72], Г. Чайлда [52], отечественных специалистов Д.Д. Беляева [4, с. 6], О.В. Старовой [37, с. 266] и др. Они показали роль археологических данных в социологическом моделировании контуров раннего хозяйства, раскрыли возможности и применили на практике способы их интерпретации при конструировании социологического вывода.
Не меньшую ценность для социолога могут иметь результаты интеллектуальной работы, связанной с анализом и интерпретацией литературных и археологических памятников, результатов антропологических наблюдений. Богатую пищу для понимания образа жизни собирателей и охотников, а также о социально-экономическом содержании и последствиях неолитической революции создают насыщенные эмпирическими данными труды ведущих зарубежных исследователей С. Айкенса [46], А. Андерхилла [105], О. Бар-Есефа [47], К. Вителли [106], А. Вейнера [110], Г. Гауптмана [73], Э. Дюркгейма [13], М. Гвисайнда [70], К. Имамуры [75], Р. Лии [81], Б. Малиновского [20], Л.Г. Моргана [28], М. Мосса [29], Г. Ниссена [87], К. Поланьи [32], М. Салинза [35], Д. Снита [99], Р. Спенсера [102], Д.К. Фейла [65], Дж. Фрэзера [40], М. Элиаде [44], Р. Эмерсона [64]. Отдельные аспекты перехода от присваивающего к производящему хозяйству в различных регионах Евразии были затронуты в работах отечественных исследователей Ю.П. Аверкиевой [1], Е.В. Антоновой [2], Е.С. Аристова, П.А. Елясина и А.М. Зайдмана [3], Е.С. Бондаренко [6], Г.И. Максименкова [19], В.И. Молодина [27] и др.
Понимание направлений и этапов развития хозяйственных систем в ранних производящих обществах может быть облегчено, если обратиться к работам, в которых содержится объяснение специфики перехода от вождества к раннему государству у «незападных» обществ. Изначально они выстраивались вокруг понимания особенностей азиатского способа производства и выяснения причин его формирования.
Проблема своеобразия азиатского способа производства, поставленная еще в ранних работах К. Маркса [22], получила свое эффектное, хотя и не бесспорное, теоретическое решение в каноническом произведении К.А. Виттфогеля «Восточный деспотизм» [112]. Значение этой работы для социологии древности сложно переоценить, поскольку она положила начало широкой дискуссии вокруг вопроса о природно-климатической детерминации принципов построения хозяйственной жизни и социальной организации ранних государств, а также открывала глаза на возможность пути развития цивилизации, альтернативного западному.
В дискурс вокруг неизбежности возникновения деспотической формы правления на основе «ирригационной» экономики были вовлечены не только социологи, но также культурологи, историки и антропологи. В их числе зарубежные социологи и антропологи М. Дэвис [57], Б. Канг [77], С. Лиис [82], Д. Прайс [91], Б. Ронделли и С. Страйд [104], Д. Сайер [96] и др. Плодотворные идеи для объяснения того, как именно протекание климатических и биосферных процессов могло отразиться на особенностях перехода общества к производящему хозяйству и началу государственно-хозяйственного строительства в «гидравлических» обществах, содержатся в работах К. Бутзера [49], Ф. Вендорфа и Р. Шилда [111], Е. Гиффорда [69], П. Дракера [61], А. Кребера [80], Э. Кульпина [17], Л. Мизеса [26], М. Мосса [29], Г. Мэрдока [85], Г. Поудермейкера [90], К. Поланьи [31], Д.Б. Прусакова [34].
Широкое антропологическое объяснение причин и механизмов трансформации ранних хозяйственных систем при переходе общества от стадии племени и вождества к раннему государству нашло свое отражение, прежде всего, в широко известном, но, к сожалению, не переведенном на русский язык сборнике под редакцией Г. Классена и П. Скальника «Раннее государство», опубликованном в 1978 году. Содержащиеся в сборнике идеи хорошо соотносятся с идеями, высказанными в работах зарубежных исследователей М. Брента [5], Е. Брумфила [48], М. Вебба [109], Ф. Вогета [107], Е. Волфа [113],
Дитриха [59], Г. Джонсона [76], М. Доурнбуса [60], Т. Ерла [56], Р. Карнейро [51], Г. Классена [53], С. Корна [78], Дж. Насона [86], К. Оберга [88], М. Салинза [94], Е. Сервиса [97], Г. Спенсера [101], П. Скальника [98], Т. Парсонса [30], Е.М. Редмонда [92], Дж. Фейнмана [66], Дж. Фланагана [67], Р.С. Ханта [74], С. Халлпайка [71], Дж. Хардоя [72], Г.В. Чайлда [52], К. Экхольма [64], Р. Эмерсона [64], Р. Эхренрейха [62] и др.
Эта тема в тех или иных аспектах разрабатывалась и отечественными исследователями Д.М. Бондаренко [7], Л.С. Васильевым [8], С.А. Васютиным [9], Л.Е. Грининым [12], А. В. Загорулько [14], А.В. Коротаевым [51], Ю.В. Латушко [18], Н.Н. Крадиным [79], Л.Е. Куббелем [16], С.А. Марети-ной [21], К.Ю. Мешковым [25], В.А. Поповым [33], А.И. Тюменевым [39], А.М. Хазановым [41], И.Ш. Шифманом [42], Е.М. Штаерман [43] и др. Определенные усилия эти исследователи сосредоточили на описании роли хозяйственной деятельности в процессе вырастания ранних государств из вож-дества или же, минуя вождество, из иных политий схожих с ним по критерию сложности социальной организации.
Безусловно, автор в рамках своей статьи был ограничен в возможности представить исчерпывающий список исследователей, деятельность которых в той или иной мере была связана с социологическим анализом ранних хозяйственных практик, и их работ, а потому констатирует его неполноту и считает важным отметить, что корпус исследований по данной тематике постоянно пополняется.
Заключение
Таким образом, на сегодняшний день в социально-экономической науке сложился комплекс представлений о методологических подходах и правилах проведения социологического исследования ранних хозяйственных укладов, а также сформирована база эмпирических знаний о них. Это позволяет изучать хозяйственные практики древности под углом зрения экономической социологии.
Уже в первых работах по истории хозяйства древних обществ была развернута дискуссия по методологическим вопросам исследования. Одним из центральных в дискурсе стал вопрос о возможности применения постулатов классической экономической теории при анализе хозяйственных практик древности. В ходе научной дискуссии было поставлено под сомнение утверждение об относительной неизменности основных характеристик «экономического человека», инвариантности сложившихся к сегодняшнему дню принципов ведения хозяйства. Так, большинство попыток проецирования подобных представлений на эмпирические данные об архаических хозяйственных практиках приводило к тому, что теоретически выстроенные представления о них заметно расходились с наблюдаемой реальностью.
Более адекватным при анализе хозяйственных практик архаического общества является широко применяемый в социологии и антропологии субстантивистский подход. В контексте методологии суб-стантивизма древнее хозяйство не может рассматриваться как отдельно существующая и ориентированная на собственные критерии система. Его следует рассматривать как часть единой социо-культурной системы, органично связанную с другими ее частями, а на ранних стадиях развития общества и подчиненную им. Соответственно, всякий хозяйственного уклад следует рассматривать как уникальный, а при его анализе целесообразно использовать идеографические методы.
В целом можно заключить, что хотя экономическая социология древности до сих пор не признана в качестве самостоятельной отрасли социологической науки, она располагает разработанной методологией и опирается на широкую эмпирическую базу знаний о хозяйственной жизни древних обществ. Весьма интересными представляются результаты исследований архаического хозяйства, отвечающие социологическим критериям и формирующие новые модели его теоретического восприятия. Это открывает известные перспективы в развитии и институционализации экономической социологии древности.
Список литературы Экономическая социология древности: методологические основы и база знаний
- Аверкиева Ю.П. Индейцы Северной Америки. М., 1974.
- Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. М.: Восточная литература, 1998. 223 с.
- Аристова Е.С., Зайдман А.М., Елясин П.А. Население юга Западной Сибири в эпоху неолита-энеолита и бронзы - адаптация к экстремальным факторам внешней среды // Сибирское медицинское обозрение. 2010. Т. 64. № 4. С. 71-73.
- Беляев Д.Д. Еще раз к вопросу о социально-политической организации ольмекской археологической культуры // Политическая антропология традиционных и современных обществ: материалы международной конф. Владивосток: ДВФУ, 2012. С. 3-29.
- Берент М. Безгосударственный полис: раннее государство и древнегреческое общество // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000.
- Бондаренко Е.С. Информационное поле неолита Ближнего Востока // История и современность. 2006. № 2. С. 47-66.
- Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Альтернативы социальной эволюции // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Сборник статей / Волгоградский центр социальных исследований. Волгоград, 2006. С. 15-36.
- Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства (формирование основ социальной структуры и политической администрации). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1983. 327 с.
- Васютин С.А. Основные модели организации власти у кочевников Центральной Азии периода раннего средневековья (в свете теории многолинейности) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2010. № 4. С. 20-34.
- ВеберМ. История хозяйства: очерк всеобщей социальной и экономической истории. Пг.: Наука и школа, 1923. 240 с.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М: Прогресс, 1990.
- Гринин Л.Е. Аналоги раннего государства: альтернативные пути эволюции // Личность. Культура. Общество. 2007. Вып. 1 (34). С. 149-169.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М: Наука, 1996. 391 с.
- Загорулько А.В., Крадин Н.Н. Рец. на кн.: Early State Economics. New Brunswik; London, 1991 // Этнографическое обозрение. 1993. № 6. С. 156-160.
- Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории развития экономического человека. Художественная промышленность и культура. М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2009. 576 с.
- Куббель Л. Е. Возникновение частной собственности, классов и государства // История первобытного общества. Эпоха классообразования. М.: Наука, 1988. С. 140-269.
- Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. М.: Наука, 1990.
- Латушко Ю.В. Проблемы интерпретации политической организации гавайского общества // Россия и АТР. 2006. № 3. С. 123-132.
- МаксименковГ.И. Андроновская культура на Енисее. Л.: Наука, 1978. 168 с.
- Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004. 552 с.
- Маретина С.А. К проблеме универсальности вождеств: о природе вождей у нага (Индия) // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М.: Восточная литература, 1995. С. 79-103.
- Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857-1858 годов) // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание. изд. 2, т. 12. М.: Политиздат, 1959.
- Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2, т. 13. М.: Политиздат, 1959.
- Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М.: Политиздат, 1986. 639 с.
- Мешков К.Ю. Филиппины // Малые народы Индонезии, Малайзии и Филиппин. М.: Наука, 1982. С. 175-226.
- Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. М.: Социум, 2012.
- Молодин В. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2001. Т. 1. 128 с.
- Морган Л.Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации // Материалы по этнографии. Т. 1. Л.: Институт народов Севера ЦИК СССР, 1934.
- Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература, 1996. С. 83-222.
- Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. 880 с.
- Поланьи К. Аристотель открывает экономику // Истоки: экономика в контексте истории и культуры. Выпуск 5. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004.
- Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.
- Попов В.А. "Хождение в Абомей в сухое время года", или к вопросу об инверсиях полюдья // Ранние формы политической организации. М., 1995.
- Прусаков Д.Б. О причине «позднего» перехода к неолиту // История и современность. 2005. № 2.
- СалинзМ. Экономика каменного века. М.: ОГИ, 1999.
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962.
- Старова О.В. Культура художественной обработки металла в эпоху племенных союзов и ранних государств Забайкалья // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 14. С. 265-269.
- Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир Даль, 2002.
- ТюменевА.И. Евреи в древности и в средние века. Репринтное издание. М., 2003.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. В 2 т. Т. 1: Гл. I-XXXIX. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001.
- Хазанов А.М. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение классового общества // Первобытное общество. Основные проблемы развития. М., 1975.
- Шифман И.Ш. Государство в системе социальных институтов в древней Палестине (вторая половина III -первая половина I тыс. до н.э.) // Государство и социальные структуры на древнем Востоке. Сборник статей. М., 1989. С. 53-85.
- Штаерман Е.М. К проблеме возникновения государства в Риме // Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 76-94.
- Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. I. От каменного века до Элевсинских мистерий. М.: Крите-рион, 2002. Т. I. 464 с.
- Элиас Н. Придворное общество: исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.: Языки славянской культуры, 2002. 368 с.
- Aikens C.M., Higuchi T. Prehistory of Japan. New York, London, Toronto: Academic Рress, 1982.
- Bar-Yosef O. The PPNA in the Levant: An Overview // Paléorient. 1989. № 15/1. P. 57-63.
- Brumfiel E. Aztec State Making: Ecology, Structure, and the Origin of the State // American Anthropologist. 1983. № 85. Р. 261-284.
- ButzerK.W. Pleistocene History of the Nile Valley in Egypt and Lower Nubia. // In: Williams M.A.J., Faure H. (eds.) The Sahara and the Nile: Quaternary Environments and Prehistoric Occupation in Northern Africa. Rotterdam: Balkema, 1980. P. 253-280.
- Carneiro R.L. The Chiefdom: Precursor of the State // In: Jones G.D., Kautz R.R. (eds.). The Transition to Statehood in the New World. Cambridge, 1981. P. 37-39.
- Carneiro R.L., Grinin L.E., KorotayevA.V. (eds.) Chiefdoms: yesterday and today. New York: Eliot Werner Publications, Inc., 2017.
- Childe G.V. The Urban Revolution // Town Planning Review. 1950. Vol. 21 (1). P. 3-17.
- Claessen H.J.M. On Chiefs and Chiefdoms // Social Evolution & History. 2011. Vol. 10. № 1. P. 5-26.
- Claessen H.J.M., van de Velde P., Smith M.E. (eds.). Development and Decline; The Evolution of Sociopolitical Organization // In: South Hadley: Bergin and Garvey, 1985. P. 196-218.
- Coe M.D. San Lorenzo Tenochtitlan // In: Supplement to the Handbook of Middle American Indians. Vol. I: Archaeology / Ed. J.A. Sabloff. Austin: University of Texas Press, 1981. P. 117-146.
- Costin C.L., Earle T.K. Status Distinction and Legitimation of Power as Reflected in Changing Patterns of Consumption in Late Prehispanic Peru // American Antiquity. 1989. № 54. Р. 691-714.
- DaviesM. Wittfogel's dilemma: heterarchy and ethnographic approaches to irrigation management in Eastern Africa and Mesopotamia // World Archaeology. 2009. Vol. 41. № 1. Р. 16-35.
- Delanty G. Sociology // George Ritzer (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Oxford: BlackwellPublishing, 2009. P. 4606-4617.
- Dietrich W. (ed.) The Early Monarchy in Israel: the Tenth Century B.C. Atlanta, 2007.
- Doornbos M.R. Institutionalization and Institutional Decline // In: Claessen H.J.M., van de Velde P., Smith M.E. (eds.). Development and Decline. South Hadley, MA: Bergin and Garvey, 1985. P. 23-35.
- Drucker P. The Tolowa and their Southwest Oregon Kin. University of California Publications in American Archaeology and Elhnology. 1937. P. 221-300.
- Ehrenreih R.M., Crumley C.L., Levy J.E. (eds.) Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Washington, D.C.: American Anthropological Association, 1995.
- Ekholm K. External Exchange and Transformation of Central African Social Systems // In: Friedman J., Rowlands M. (eds.) The Evolution of Social Systems. London, 1977. P. 115-136.
- EmersonR.W. History // In: Essays by Ralph Waldo Emerson. New York: Hurst, 1978. P. 1-26.
- Feil D.K. The Evolution of Highland Papua New Guinea Societies. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987.
- Feinman G.M. Chiefdoms and Non-industrial States // In: Levinson D., Ember M. (eds.) Encyclopedia of Cultural Anthropology. New York: Henry Holt and Company, 1996. P. 185-191.
- Flanagan J.W. Chiefs in Israel // In: Community, Identity, and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible / Ch.E. Carter, C.L. Meyers (eds.). Indiana, 1996. pp. 311-334.
- Flannery K.V., Marcus J. The Creation of Inequality. Cambridge: Harvard University Press, 2012. 630 p.
- GiffordE.W. Clear Lake Pomo Society // American Archaeoloav and Ethnology. 1926. P. 287-390.
- GusindeM. The Yamana. 5 vols. New Haven, Conn.: Human Relations Area Files, 1961. P. 86-87.
- Hallpike C. The Principles of Social Evolution. Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Hardoy J. Pre-Columbian Cities. New York: Walker and Company, 1973. 602 p.
- Hauptmann H. Ein Kultgebäude in Nevali Qori // In: Between the Rivers and over the Mountains. Roma, 1993. P. 37-69.
- HuntR.C. One-way Economic Transfer // In: Handbook of Economic Anthropology. 2005.
- Imamura K. Prehistoric Japan. New Perspectives on Insular East Asia. Honolulu: Univ. of Hawaii Рress, 1996.
- Johnson G. Organizational Structure and Scalar Stress // In: Theory and Explanation in Archaeology. New York, 1982. P. 389-421.
- KangB.W. Large-scale reservoir construction and political centralization: a case study from ancient Korea // Journal of Anthropological Research. 2006. Vol. 62. № 2. P. 193-216.
- Korn S.R. Hunting the Ramage: Kinship and the Organization of Political Authority in Aboriginal Tonga // The Journal of Pacific History. 1978. № 13. P. 107-113.
- Kradin N.N. Heterarchy and Hierarchy among the Ancient Mongolian Nomads // Social Evolution & History. 2011. Vol. 10. № 1. P. 187-214.
- Kroeber A.L. Handbook of the Indians of California // Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology Bulletin, 78. Washington, U.S. Government Printing Office, 1925.
- Lee R. What Hunters Do for a Living, or How to Make Out on Scarce Resources // In: R. Lee and I. Dellore (eds.) Man the Hunter. Chicago: Aldine, 1968.
- Lees S.H. Irrigation and society // Journal of Archaeological Research. 1994. Vol. 2. № 4. P. 361-378.
- Lemarchand R., Legg K. Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis // Comparative Politics. 1972. Vol. 4. № 2. P. 151-152.
- Marshall L. Sharing, Talking, and Giving: Relief of Social Tensions Among Kung Bushmen // Africa. 1961. № 31. P. 231-249.
- Murdock G.P. Africa: Its peoples and their culture history. New York: McGraw-Hill, 1959.
- Nason J.-C. Political Change: an Other Island Perspective // In: Highes D.T., Lingenfelter S.G. (eds.) Political Development in Micronesia. Columbus, Ohio, 1974. P. 119-143.
- Nissen H.J. The PPNC, the Sheep and the "Hiatus Palestinien". Paleorient 19/1, 1993.
- Oberg K. Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central America // American Anthropologist. 1955. № 57. Р. 472-487.
- Pachur H.-J. Tethering Stones as Palaeoenvironmental Indicators // Sahara. 1991. № 4. P. 13-32.
- Powdermaker H. Life in Lesu. New York: Norton, 1933.
- Price D.H. The evolution of irrigation in Egypt's Fayoum Oasis: state, village and conveyance loss. Ph.D. University of Florida, 1993.
- RedmondE.M. Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas. Gainesville: University Press of Florida, 1998.
- RhotertH. Libysche Felsbilder. Darmstadt: Wittich, 1952.
- Sahlins M. Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia // Comparative Studies in Society and History. 1963. Vol. 5. № 3. Р. 285-303.
- Sahlins M.D., Service E.R. (eds.) Evolution and Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960. 131 p.
- Sayer D. Medieval waterways and hydraulic economics: monasteries, towns and the East Anglian fen // World Archaeology. 2009. Vol. 41. № 1. P. 134-150.
- Service E.R. Primitive Social Organization. New York: Random House, 1966. 221 p.
- Skalmk P. Authority versus Power: Democracy in Africa Must Include Original African Institutions // Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. 1996. № 37-38. P. 109-121.
- Sneath D. The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia. New York: Columbia University Press, 2007. 273 p.
- Spencer H. Social Statics. New York: D. Appleton, 1851. 459 р.
- Spencer H. The Principles of Sociology. Vol. 2. New York: D. Appleton, 1890.
- Spencer R. The North Alaskan Eskimo: A Study in Ecology and Society. Washington: U.S. Government Printing Office, 1959.
- StirlingM. Stone Monuments of Southern Mexico. Washington, 1943. 160 p.
- Stride S., Rondelli B., Mantellini S. Canals versus horses: political power in the oasis of Samarkand // World Archaeology. 2009. Vol. 41. № 1. P. 73-87.
- UnderhillA. Regional Growth of Cultural Complexity During the Longshan Period of Northern China // In: Pacific Northeast Asia in Prehistory: Hunter-Fisher-Gatherers, Farmers and Sociopolitical Elites / eds. C.M. Aikens, S.N. Rhee. Pullman: Washington State Univ. Рress, 1992. P. 173-178.
- Vitelli K.D. Pots, Potters, and the Shaping of Greek Neolithic Society // In: The Emergence of Pottery / eds W.K. Barnett, J.W. Hoopes. Washington; London: Smithsonian Inst. Рress, 1995. P. 55-64.
- VogetF.W. A History of Ethnology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975. 862 р.
- Warner W.L. A Black Civilization (first edition 1937). New York: Harper & Row, 1964.
- Webb M. The Flag Follows Trade: An Essay on the Necessary Interaction of Military and Commercial Factors in State Formation // In: Lamberg-Karlovski C., and Sabloff J. (eds.) Ancient Civilization and Trade. Albuguerque, 1975. P. 155-210.
- Weiner A. Inalienable Possessions: Paradox of Keeping-while-Giving. Berkeley, 1992.
- Wendorf F.A., SchildR., Haas H. A New Radiocarbon Chronology for Prehistoric Sites in Nubia // Journal of Field Archaeology. 1979. № 6. Р. 219-223.
- Wittfogel K.A. Oriental despotism: a comparative study of total power. New Haven, London: Yale University Press, 1957.
- Wolf E. Kinship, Friendship and Patron-Client Relations in Complex Societies // In: Social Anthropology of Complex Societies. London, 1966. P. 16-18.