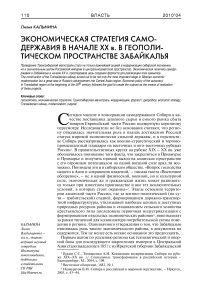Экономическая стратегия самодержавия в начале ХХ в. в геополитическом пространстве Забайкалья
Автор: Кальмина Лилия Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2010 года.
Бесплатный доступ
Проведение Транссибирской магистрали стало не только важнейшей акцией в модернизации сибирской экономики, но и значительным шагом Российской империи в центральноазиатское пространство. Экономическая политика самодержавия в Забайкалье в начале ХХ в. преследовала цель создания форпоста для реализации этих замыслов.
Геополитика, экономическая стратегия, транссибирская магистраль, модернизация, форпост
Короткий адрес: https://sciup.org/170165287
IDR: 170165287
Текст научной статьи Экономическая стратегия самодержавия в начале ХХ в. в геополитическом пространстве Забайкалья
С егодня мнение о консервации самодержавием Сибири в качестве поставщика дешевого сырья и емкого рынка сбыта товаров Европейской части России подвергнуто коренному пересмотру. Исследователи не без основания считают, что региону отводилась значительная роль в планах достижения Россией статуса мировой экономически сильной державы, и в перспективе Сибирь рассматривалась как военно-стратегический и торговопромышленный плацдарм на восточных и юго-восточных рубежах России1. В правительственных кругах на рубеже ХIХ – ХХ вв. уже обозначилось понимание того факта, что закрепиться в Приамурье и Приморье и получить прямой выход на азиатское пространство с его огромным потенциалом на одной военной силе вряд ли возможно. Понимали это и в сибирском обществе. «Вопрос господства нашего в Азии и сохранения владений, – писала газета «Восточное обозрение», – не в одной физической, военной, но и культурной силе, экономическая же и гражданская жизнь может развиваться только при известном производстве и вне тех исключительных условий, в которых стоят окраины»2. Этапы освоения территории азиатской части России, где за военно-политической (по сути – грабительской) стадией, формированием дорожно-транспортной инфраструктуры, утилизацией наиболее ценных и доступных природных ресурсов районов и становлением сельского хозяйства крестьянского типа последовала первичная индустриализация с формированием отдельных экономических районов3, явно выходят за рамки типичной для колонизатора потребительской схемы поведения в регионе. Однозначного утверждения о том, что Забайкалью отводилась роль такого экономического района, в документах не содержится. Тем не менее есть веские основания это предполагать.
Первым шагом по усилению региона как технологической и опорной базы для последующего закрепления империи в Центральной Азии стало выделение в 1851 г. из Иркутской губернии Забайкальской области с центром в Чите. Следующим стала «Записка о китайских делах» от 30 августа 1862 г., в которой формулировались задачи развития хозяйственной инфраструктуры Восточной Сибири, ориентируемой на азиатские рынки. В противовес усилению британского влияния в Китае, его распространению на Дальний Восток и, возможно, на Восточную Сибирь предлагалось заселить русский Дальний Восток выходцами из европейской части страны, создать в Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве угледобывающую и лесоперерабатывающую промышленность и удешевить перевозку товаров по Сибири за счет устройства новых путей сообще-ния1. Сооружение Транссибирской магистрали стало первой крупной акцией в модернизации экономики Сибири, что, в свою очередь, поставило перед правительством задачу освоения прилегающих к ней районов, чтобы экономически оправдать сооружение железнодорожного пути, дать ему достаточное количество грузов и превратить в источник доходов для государ-ства2. Однако магистраль долго не могла войти в рабочий ритм, а ее Забайкальский участок – по сути, единственное крупное коммерческое предприятие в регионе – существовал большей частью за счет казны. Самым крупным потребителем дороги были сама дорога и военное ведомство. Даже на фоне недостаточности провозо-пропускной мощности Транссибирской магистрали и крайне низких скоростей движения поездов Забайкальский участок, дававший около девяти рублей убытка на каждую пудо-версту из-за искусственного применения льготных тарифов, преобладания пассажирских перевозок над грузовыми и низкой интенсивности движения, выглядел непрезентабельно и, по подсчетам его начальника Ф. Кнорринга, считался самым убыточным3. В 1909–1911 гг. расходы по эксплуатации Забайкальской железной дороги в два и более раз превышали полу- ченные от перевозок доходы, образовав за три года дефицит более чем в 9 млн руб.4
То что государство мирилось с коммерческой убыточностью предприятия, призванного сыграть ведущую роль в планах модернизационного преобразования края, не требовало поднятия его рентабельности и даже постоянно дотировало его деятельность, никак не вписывается в концепцию развития региона как исключительно сырьевого придатка Российской империи, когда транспортная артерия должна служить мощным, бесперебойно работающим насосом для выкачивания сибирских богатств. Однако если в планах самодержавия Забайкалье было призвано, в первую очередь, сыграть роль проводника в Центральную Азию, это становится понятным и оправданным.
Сам выбор траектории рельсового пути через Верхнеудинск позволяет сделать вывод о том, что его сооружение преследовало куда более далеко идущие цели, чем стабильное обеспечение дешевым сырьем промышленности европейской части страны и расширение рынка ее сбыта. Близкое соседство с Монголией усиливало позиции забайкальского региона и сулило ему завидные перспективы не только как транзитному пункту идущих за границу товаров, но и как экономической базе для реализации честолюбивых планов империи. Надо отдать должное региональной власти, она загодя просчитала выгоду своего геополитического положения. В сохранившихся в архивах ходатайствах Верхнеудинской городской думы перед Приамурским генерал-губернатором А.Н. Корфом и Министерством путей сообщения еще в 1887 г., задолго до проведения трассы, приводятся аргументы городской власти в пользу избранной ею траектории: «…при проведении железной дороги через Верхнеудинск правительство в случае экстренной усиленной перевозки войск, фуража и других казенных транспортов может пользоваться кроме железнодорожного пути и параллельным ему от Иркутска до Верхнеудинска водяным путем… При неотложности постройки Сибирских железных дорог для стратегических целей (выделено нами. – Л.К.) постройка Забайкальской ветви могла бы быть начата в первое время для скорейшего пользования дорогою от г. Верхнеудинска, так как водяной путь между Иркутском и Верхнеудинском открыт в течение полугода, с конца апреля по ноябрь»1. Похоже, этот аргумент серьезно рассматривался официальным Петербургом, а вероятность военного столкновения со стремительно наращивавшей военный потенциал Японией окончательно скорректировала траекторию, темпы и цели сооружения магистрали: экономическими соображениями, предполагавшими максимальную выгоду от коммерческой деятельности, пришлось пожертвовать ради внешнеполитической безопаснос-ти2. Вскоре начавшаяся русско-японская война подтвердила правильность расчета: даже при низкой пропускной способности магистрали, колоссальных финансовых расходах и затратах человеческого труда на реконструкцию путей дорога выполнила свою задачу, и все проекты использования сибирских рек для снабжения армии остались нереализованными за ненадо-бностью3. А неудачное окончание войны, наглядно продемонстрировавшее слабость экономического развития и восточных рубежей империи, непосредственно прилегающих к районам боевых действий, и Сибири в целом, совершило переворот в сознании российского правительства относительно роли и назначения региона: Сибирь заняла важное место в проектах общегосударственного масштаба, а работа по экономическому освоению Забайкалья форсировалась.
В планы усиления позиций России в Центральной Азии путем промышленной модернизации Забайкалья хорошо вписывается предполагавшееся строительство Кяхтинской ветки железной дороги с перспективой проведения ее через Монголию до Пекина4. Первые публикации о необходимости ее строительства для «упрочения положения России на монголо-тибетском востоке» появились практически одновременно с началом сооружения СреднеСибирского и Забайкальского участков магистрали, а в статьях-отчетах военных и экономических агентов Российской империи 1911–1913 гг. Монголия рассматривалась не только как будущий экономический партнер, но, прежде всего, как плацдарм возможного театра военных действий5. С началом Первой мировой войны, с угрозой потери индустриальных районов в Европейской России самодержавие лишний раз убедилось в необходимости ориентирования на азиатский рынок и стало уже предметно заниматься Кяхтинской веткой, планируя соединить ее с Забайкальским участком Транссиба у Верхнеудинска6. Выбор в пользу Верхнеудинска из двух возможных траекторий – Мысовая – Кяхта и Верхнеудинск – Кяхта7 опять-таки не был случайным. Во-первых, географическое положение города – в центре западной части Забайкалья, вблизи Кругобайкальского пути, на пересечении железнодорожного и водного путей, а также почтового тракта в Баргузин и дороги в Троицкосавск– Кяхту – изначально давало ему серьезные преимущества перед Мысовой. Во-вторых, помимо роли крупного транспортного узла, город к этому времени выполнял функции центра промышленного района. В его окрестностях работали Кокертойский и Брянский цементные заводы, дававшие цемент высокого качества. Начатая здесь в 1901 г. добыча каменного угля за пять-шесть лет более чем утроилась, а открытые в нескольких верстах от города новые месторождения Тарбагатайских и Холярдинских копей с мощностью угольных пластов в миллиарды пудов обещали рост производительности и относительно низкую себестоимость продукции будущего машиностроительного завода. Лесопильные предприятия Западного Забайкалья к началу Первой мировой войны выпускали до 40 тыс. кубометров леса8, строились планы по разработке в окрестностях Верхнеудинска месторождений слюды, асбеста, меди, железа. В-третьих, район отличался повышенной плотностью населения: в Верхнеудинском уезде и на примыкающих к нему территориях Селенгинского и Баргузинского уездов сосредоточивалась треть населения Забайкалья. Наконец, обилие прилегающих плодородных земель при хорошем урожае реально превращало город в региональный «склад» запасов для мясной и хлебной торговли. Жители Кяхты, связывавшие с проведением Верхнеудинско-Кяхтинской железной дороги до Калгана и Пекина надежды на возрождение чайной торговли и, следовательно, «будущий громадный рост своего города»1, обманулись бы в своих ожиданиях. На наш взгляд, проведение железнодорожной ветки Верхнеудинск – Кяхта как способ реанимации чайной торговли через Кяхту, объемы которой резко снизились во второй половине ХIХ в. после начала доставки чая в Россию морем, было не главной целью, а может, таковой и вовсе не имело. Морской путь доставки был более выгодным и дешевым. Да и непрерывное рельсовое сообщение от Ханькоу до Москвы с провозной платой 4,97 руб. за пуд на всем огромном расстоянии2 позволяло снабжать Россию чаем без дополнительных затрат, и правительство проводило политику государственного протекционизма в Кяхте искусственной поддержкой разницы пошлин.
Проведение ветки от Верхнеудинска до Пекина через Кяхту и Монголию преследовало цель проникновения империи в Центральную Азию и установления там своего экономического и политического влияния, а Забайкалье, где в начале ХХ в. ускоренными темпами развивались и добывающая, и обрабатывающая промышленность, было призвано сыграть роль промышленного плацдарма в осуществлении этих замыслов. В пользу этой версии говорит и решение перенести из губернской Читы в уездный Верхнеудинск управления Забайкальской железной дороги и железнодорожных мастерс- ких, которое принималось на уровне Государственной думы3. Для обслуживания железнодорожной линии до Кяхты и далее промышленный узел лучше было создавать в Верхнеудинске, а не в Чите.
Таким образом, Транссибирская магистраль как первый и наиболее важный шаг в концепции модернизации сибирской экономики не только создавала условия для промышленной революции в других отраслях, но и служила геополитическим интересам империи. Особые надежды самодержавное правительство связывало с Забайкальским участком магистрали, сама траектория которого с последующим проведением ветки Кяхта – Пекин и соединением с Транссибом у Верхнеудинска позволяет говорить о транспортном строительстве в регионе как главном шаге на пути освоения центральноазиатского пространства. Промышленное освоение региона, начатое с наступлением ХХ в. и заметно форсировавшееся в период Первой мировой войны, также вполне вписывалось в имперскую политику территориальной экспансии и формирования в регионе промышленного фундамента для последующего конструирования собственной политико-экономической модели развития.
Постсоветская действительность внесла принципиальные изменения в геополитическое положение России, осознавшей себя евразийским государством, которому придется иметь дело не только (и даже не столько) с западноевропейскими, сколько с азиатско-тихоокеанскими геополитическими реалиями, поэтому разработка экономической политики на приграничных территориях, имеющих прямой выход в азиатское пространство, приобретает особое значение. Для обеспечения своих геополитических интересов, экономической и политической безопасности в регионе России необходимо, прежде всего, воссоздать разрушенную экономическую базу. Реализация правительственной стратегической программы развития Дальнего Востока и Забайкалья вновь возвращает нас к идее создания здесь развитого промышленного района, что позволит прекратить миграционный отток населения и решить проблему повышения его жизненного уровня.