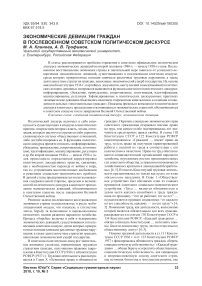Экономические девиации граждан в послевоенном советском политическом дискурсе
Автор: Клинова Марина Александровна, Трофимов Андрей Владимирович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.19, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема отражения в советском официальном политическом дискурсе экономических девиаций во второй половине 1940-х - начале 1950-х годов. Послевоенное восстановление экономики страны в значительной мере зависело от успешного искоренения экономических девиаций, существовавших в послевоенном советском социуме, среди которых приоритетные позиции занимали различные трудовые нарушения, а также деятельностные стратегии граждан, наносящие экономический ущерб государству. На основе анализа Конституции 1936 г., партийных документов, выступлений и высказываний политических акторов, архивных материалов выявляются функции советского политического дискурса: информирование, убеждение, принуждение, сопротивление, легитимация, идентификация, манипулирование, регуляция. Зафиксированные в политических дискурсивных практиках экономические девиации объяснялись наличием «пережитков капитализма» в сознании и поведении отдельных «несознательных граждан». Показаны пределы и возможности политического дискурса в контексте преодоления отклоняющихся экономических стратегий, обозначившихся в советском социуме после завершения Великой Отечественной войны.
Советский политический дискурс, экономические девиации
Короткий адрес: https://sciup.org/147231656
IDR: 147231656 | УДК: 93/94. | DOI: 10.14529/ssh190305
Текст научной статьи Экономические девиации граждан в послевоенном советском политическом дискурсе
Политический дискурс включает в себя совокупность существующих в социуме семиотических практик, посредством которых власть, медиа, оппозиция, акторы и институты стремятся либо укрепить сложившуюся систему общественных отношений, либо дестабилизировать ее. К функциям политического дискурса принято относить: информирование, убеждение, принуждение, сопротивление, легитимацию, идентификацию, манипулирование, регуляция и др. Во второй половине 1940-х — начале 1950-х годов происходила определенная корректировка политических дискурсивных практик, связанная, как с необходимостью перехода от войны к миру, так и с устранением многочисленных дисбалансов и решением социально-экономических проблем. В данной статье предпринимается попытка выявления содержательной стороны, пределов и возможностей политического дискурса в контексте преодоления экономических девиаций, обозначившихся в советском социуме после завершения Великой Отечественной войны.
Решение задачи послевоенного восстановления экономики страны осуществлялось в русле мобилизационной модели, что означало, в стилистике эпохи, борьбу за выполнение и перевыполнение пятилетних планов развития народного хозяйства. Процесс «борьбы» включал в себя и искоренение экономических девиаций, существовавших в послевоенном советском социуме, среди которых приоритетные позиции занимали различные трудовые нарушения, а также деятельностные стратегии граждан, наносящие экономический ущерб государству.
В советском политическом дискурсе значительное внимание уделялось нормативным трудовым стратегиям граждан, получившим правовое закрепление в Конституции СССР (1936 г.) и Конституции РСФСР (1937 г.). Трудовая деятельность рассматривается в Главе X «Основные права и обязанности граждан». Перечень социально-экономических прав советского гражданина открывало именно право на труд, тем самым особо подчеркивалась его значимость среди прочих прав и свобод. В статье 118 Конституции СССР и 122 Конституции РСФСР констатировалось: «Граждане … имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы» [4; 5]. В текстах Конституций трудовая деятельность презентовалась не только как право, но и как обязанность населения. В Главе 1 «Общественное устройство» был обозначен один из главных принципов советского социально-экономического устройства: «Труд … является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: “кто не работает, тот не ест” … осуществляется принцип социализма: “от каждого по его способности, каждому — по его труду”» [4; 5]. Понимание труда, как деятельности, выполнение которой является обязательным для всех граждан, раскрывается и в статьях 130 Конституции СССР и 134 Конституции РСФСР: «Каждый гражданин … обязан соблюдать Конституцию … исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу» [4; 5].
Помимо трудовой деятельности в ст. 131 Конституции СССР 1936 г. и ст. 135 Конституции РСФСР 1937 г. фиксировалась обязанность граждан, «беречь социалистическую собственность»: «Каждый гражданин … обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся». Важность бережного отношения к социалистической собственности акцентировалась путем стигматизации любых преступных посягательств граждан на общественные блага: «Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа» [4; 5]. В контексте советского политического дискурса на основе этих конституционных норм «активировались» функции легитимации, убеждения, принуждения, манипулирования, регуляции.
Приоритетность защиты социалистической собственности, как и суровость наказаний за посягательства на нее, определялась, в том числе, и достаточно категоричным отношением Сталина к данной проблеме. В одном из писем Кагановичу еще в 1932 г. Сталин писал: «Социализм, не сможет добить и похоронить капиталистические элементы и индивидуально-рваческие привычки, навыки, традиции (служащие основой воровства), расшатывающие основы нового общества, если он не объявит общественную собственность (кооперативную, колхозную, государственную) священной и неприкосновенной» [14, c. 241]. Данное суждение подкреплялось правоприменительной практикой 1930—1940-х гг., носящей репрессивный характер и призванной в короткие исторические сроки создать «нового» человека, с осознанным отношением к социалистической форме собственности.
В политической риторике механизм стигматизации практик хищения социалистической собственности реализовывался путем масштабирования негативных последствий данных преступлений, определения их как антигосударственных и антинародных деяний, синонимичных предательству: «… вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже» [15, c. 136]. Для пресечения хищений социалистической собственности необходимым виделось создание такой «моральной атмосферы среди рабочих и крестьян, которая исключала бы возможность воровства, которая делала бы невозможными жизнь и существование воров и расхитителей народного добра» [15, c. 136]. В соответствии с поставленной целью борьба с хищениями презентовалась как личная задача каждого советского человека: «каждый честный советский гражданин должен рассматривать расхитителей социалистической собственности не только как врагов государства, но и как своих личных врагов» [15, c. 136]. В советском политическом дискурсе широко использовался «образ врага» (не только внешнего, но и внутреннего) для мобилизации «трудящихся масс» на борьбу с «растратчиками», «расхитителями», «прогульщиками» и т. п. типажами, что нашло отражение в репрессивных кампаниях 1930—1940-х гг.
Тенденция приоритетной правовой защиты государственной и общественной собственности сохраняется и в послевоенный период. Реализуя установки официального политического дискурса в практической плоскости в этот период были проведены масштабные мероприятия, направленные на усиление борьбы с хищениями государственной и общественной собственности. Важно отметить, что в отличие от итогов кампаний, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции или результатов, достигнутых в решении кадровой проблемы, «достижения» кампании по борьбе с хищениями не популяризировались. В официальных документах, отражающих перспективные направления экономического развития государства, проблематика различного рода хищений социалистической собственности, не акцентировалась, как и результаты борьбы с данным явлением. В текстах четвертого и пятого пятилетних планов само понятие «хищение» не упоминается ни разу, тема хищений и борьбы с ними вообще не обозначена. Обращение к данной проблематике в контексте политической риторики послевоенного периода фиксируется в текстах выступлений делегатов XIX съезда ВКП(б) — КПСС (1952 г.). Делегаты съезда Н. И. Беляев (Алтайский край), К. П. Жуков (Воронежская обл.), А. Н. Поскребышев и М. Ф. Шкирятов (Москва), указывая на наличие проблемы хищений в регионах РСФСР (на уровне отдельных примеров), акцентируют внимание на ее достаточно эффективном решении — «виновные наказаны» [3]. Практически не освещались в официальном властном дискурсе и результаты борьбы с трудовыми девиациями (прогулами, дезертирством, бесхозяйственностью и пр.).
Советский политический дискурс послевоенного периода содержал указание на необходимость искоренения различного рода экономических девиаций граждан. Наличие данных проблем обозначалось при помощи императивных установок на необходимость преодоления «бесхозяйственности» и «разбазаривания» благ, а также посредством таких более «мягких» категорий, как «экономия», «бережливость», «рачительность» и т.п. В тексте «Закона о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946—1950 гг.» зафиксировано требование: «повысить внимание хозяйственных организаций к мобилизации внутренних ресурсов, к режиму экономии и решительной ликвидации потерь от бесхозяйственности и непроизводительных затрат» [17, c. 27]. В докладе Председателя Госплана М. З. Сабурова «Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 гг.» также подчеркивается необходимость борьбы с бесхозяйственностью: «Нужно воспитывать наши кадры в духе непримиримости к недостаткам в организации производства, к любым проявлениям бесхозяйственности и бюрократизма» [11, c. 4]. В принятом на XIX съезд ВКП(б) — КПСС «Уставе КПСС» «борьба с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением дела на предприятиях, в совхозах, колхозах» обозначалась в качестве одной из приоритетных задач первичных партийных организаций [6, c. 298]. Проблема «бесхозяйственности» рассматривалась как следствие недостаточной сознательности части граждан, и предполагалось, что ее можно решить, используя механизмы убеждения и принуждений.
Категория «экономия» была акцентирована в нормативных документах, посвященных проблемам незаконного расходования населением государственных ресурсов. В тексте постановления Совета Министров СССР № 1432 от 7 мая 1947 г. отмечено: «Министерства и главные управления не осуществляют контроль за использованием спирта предприятиями, не принимают должных мер к экономному расходованию его … в больших количествах спирт расходуется не по назначению, расхищается, разбазаривается на сторону и выдается для выпивки разным лицам бесплатно и за плату по цене промышленности 3 руб. 80 коп. за литр при розничной цене 241 руб. 94 коп.» [1, л. 123]. Обращение к категории «экономия» также фиксируется в документах, вскрывающих факты незаконных выплат руководителями премий, начисления избыточных командировочных расходов, ведущих «к расточительному расходованию государственных средств» и пр. [2, л. 172, 247, 335]. Соблюдение режима «экономии» противопоставлялось практикам расхищения ресурсов.
В целом, перечень стигматизируемых экономических практик населения составляли различные виды хищений социалистической собственности (растраты, мошенничество и пр.), спекуляция, трудовые девиации (прогулы, бесхозяйственность и т. п.). Интенсивность обращения к той или иной девиации в политическом дискурсе послевоенного периода определялась стадиальностью проводимых кампаний. В 1948—1951 гг. палитра властной риторики, направленной на конструирование аномалий в послевоенном советском социуме, расширилась посредством актуализации словосочетания: «лица, ведущие антиобщественный, паразитический образ жизни», применяемого в отношении граждан «злостно уклоняющихся от общественно-полезного труда» (колхозников, не вырабатывающих необходимый минимум трудодней, либо лиц, занимающихся нищенством и бродяжничеством) [8, c. 12, 37].
Проводимые политические кампании широко освещались средствами массовой информации. В 1947 гг. в связи широко развернувшейся в СССР кампанией по борьбе с хищениями, увеличивается количество материалов в периодических изданиях, посвященных данной теме, появляются новые ярлыки-идеологемы маркирующие данную девиацию. Так, например, автор одной из статей, опубликованных в журнале «Социалистическая законность» (1947 г.) отмечает: «Хищники социалистической собственности … понесли заслуженное наказание» [16, c. 21].
В советском политическом дискурсе в качестве причин девиантных экономических практик населения, как правило, обозначались «пережитки капитализма». Так, в журнале «Пропаганда и агитация» за 1947 г. отмечалось: «В нашей стране паразитический образ жизни нетерпим, является преступлением. Отдельные паразитические элементы в нашем обществе это носители гнусных привычек и пережитков капитализма, чуждых нашему обществу, глубоко противоречащих морали советского человека и правилам социалистического общежития. Именно такие пережитки капитализма в сознании людей, как эгоистическое стремление жить за счет других, отлынивание от честного труда, стремление к легкой наживе, моральная нечистоплотность к своему общественному долгу, пренебрежение общественными, государственными интересами ради своих корыстных личных интересов и так далее порождают такие преступления, как кража, расхищение социалистической собственности, спекуляция, растрата государственных и общественных средств, подлоги, взяточничество, мошенничество» [12, c. 39].
Тезис об обусловленности экономических девиаций «капиталистическим наследием» фиксировался не только в периодической печати, но фигурировал в докладах политических лидеров и в официальных нормативных документах периода. Г.В. Маленков в информационном докладе по деятельности ЦК ВКП (б) на совещании компартий в Польше (1947 г.) указывал: «В настоящее время в работе государственных органов выдвигаются на первый план хозяйственно-организационная работа, укрепление советской законности, борьба против частнособственнических пережитков, борьба за дальнейшее укрепление социалистической собственности и повышение государственной дисциплины во всех областях нашей деятельности» [3, c. 142]. В. М. Молотов в докладе «Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции» отмечал: «Нельзя отрицать, что пережитки капитализма в сознании людей весьма живучи» [7, c. 28]. В постановлении Пленума ВС СССР № 7/2/У от 24 июня 1949 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве» отмечено: «Борьба с пережитками капитализма в сознании людей является важнейшей задачей в деле коммунистического воспитания как одного из необходимых условий постепенного перехода от социализма к коммунизму. Взяточничество представляет собой один из тех специфических пережитков капитализма, с которыми суды должны вести самую решительную борьбу» [13, c. 26].
В контексте означенного «идеалистического» рассмотрения причинности экономических преступлений ключом к их искоренению виделось воспитание в гражданах честности, сознательности, порядочности, а также коммунистической морали. Апелляция к честности, как к необходимой основе бережного отношения к государственным ресурсам также фиксируется в правительственной риторике послевоенного периода. В постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 25 октября 1946 г. в качестве одной из важных мер по сохранению государственного хлеба отмечено: «укомплектовать и укрепить аппарат … заготовительных пунктов … честными работоспособными кадрами … в первую очередь из состава коммунистов и комсомольцев» [9, c. 78].
Отрицание имманентно присущих советской мобилизационной модели социально-экономических факторов, влияние которых обуславливало выбор гражданами деятельностных стратегий, квалифицируемых в УК РСФСР, снимало с власти ответственность за криминализацию советского социума, значительно усилившуюся в послевоенные годы.
Официальный советский политический дискурс транслировал представление о том, что экономические девиации населения не могут генерироваться в советском социуме, являясь проявлением «капиталистических пережитков в сознании и поведении людей». Признавалось их наличие в стране на уровне проступков отдельных «несознательных» граждан. Советский официальный политический дискурс был ориентирован на развернутую презентацию «должных» и «правильных» практик, тогда как проявления девиантных деятельностных стратегий населения находились на его периферии. Результаты правоохранительной деятельности власти описывались оптимистичной формулировкой: «виновные понесли заслуженное наказание». Конкретные цифры и показатели «достижений» масштабных кампаний по борьбе с трудовыми и экономическими девиациями граждан, проводимыми в послевоенный период, не популяризировались в официальном политическом дискурсе и материалах СМИ. Послевоенный советский политический дискурс демонстрировал определенную эффективность в реализации функций убеждения, принуждения, манипулирования, регуляции и др., что свидетельствовало, как о наличии «кредита» доверия общества к власти, так и об адаптации значительной части населения к жизни в условиях бедности, в том числе посредством использования замалчиваемых на официальном уровне, девиантных экономических стратегий.
Список литературы Экономические девиации граждан в послевоенном советском политическом дискурсе
- ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 301.
- ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 332.
- Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года. - М.: Госполитиздат, 1948. - 305 с.
- Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Утверждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г. // Собрание Узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. - 1937. - № 2.
- Конституция Союза Советских Социалистических Республик. Утверждена Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов 5 декабря 1936 г. // Известия ЦИК Союза СССР и ВЦИК. - 1936. - № 283.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1986. - Изд 9-е. - Т. 8. - М.: Политиздат. 1985. - 542 с.
- Молотов, В. М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции / В. М. Молотов. - М.: Госполитиздат, 1947. - 32 с.
- На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 1945-1960-е гг. / авт.-сост. Е. Ю. Зубкова, Т. Ю. Жукова. - М.: РОССПЭН. 2010. - 816 с.
- Об обеспечении сохранности государственного хлеба: Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 25 октября 1946 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1986. Изд 9-е. - Т. 8. - М.: Политиздат. 1985. - 542 с.
- Поскребышев, А. Н. Доклад на XIX съезде ВКП(б) - КПСС / А. Н. Поскребышев // Правда. - 1952. - № 286. - 12 окт. - С. 4.
- Правда. - 1952. - № 284. - 10 окт.
- Пропаганда и агитация. - 1947. - № 21.
- Сборник действующих постановлений Пленума Верховного суда СССР 1924-1951 гг. / под ред. А. А. Волина. - М.: Изд-во юрид. лит-ры. 1952. - 268 с.
- Сталин и Каганович, Переписка, 1931-1936. - M.: РОССПЭН, 2001. - 798 с.
- Сталин, И. В. О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии // И. В. Сталин. ПСС. - Т. 8. М., 1951. - 456 с.
- Сухоруков, В. Дело, лежавшее без движения / В. Сухоруков // Социалистическая законность. - 1947. - № 12. - С. 21-22.
- Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. - Т. 5. 1946-1948. - М.: Гос. издат. юрид. лит., 1949. - 520 с.