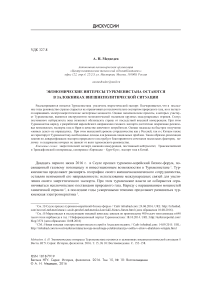Экономические интересы Туркменистана остаются в заложниках внешнеполитической ситуации
Автор: Медведев Андрей Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются попытки Туркменистана увеличить энергетический экспорт. Подчеркивается, что в последние годы руководство страны старается не ограничиваться исключительно экспортом природного газа, но и пытается наращивать электроэнергетические экспортные мощности. Однако экономические проекты, в которых участвует Туркменистан, являются инструментом геополитической экспансии крупных международных игроков. Статус постоянного нейтралитета пока позволяет обезопасить страну от последствий внешней конкуренции. При этом Туркменистан наряду с разработкой европейского направления газового экспорта достаточно оперативно реализовал возможность экспорта газа в Иран в качестве конечного потребителя. Однако надежды на быстрое получение «живых денег» не оправдались. При этом нынешний уровень сотрудничества как с Россией, так и с Китаем также не гарантирует Туркменистану необходимые доходы для решения социальных проблем. Таким образом, реализация планов по диверсификации экспорта природного газа требует благоприятного сочетания нескольких факторов, наличие и содержание которых не зависят от воли туркменского руководства.
Энергетический экспорт, внешняя конкуренция, постоянный нейтралитет, транскаспийский и трансафганский газопроводы, газопровод "корпедже - курт-куи", экспорт газа в китай
Короткий адрес: https://sciup.org/147219497
IDR: 147219497 | УДК: 327.8
Текст научной статьи Экономические интересы Туркменистана остаются в заложниках внешнеполитической ситуации
Двадцать первого июня 2016 г. в Сеуле прошел туркмено-корейский бизнес-форум, посвященный газовому потенциалу и инвестиционным возможностям в Туркменистане 1. Туркменистан продолжает расширять географию своего внешнеэкономического сотрудничества, оставляя неизменной его направленность: использование международных связей для увеличения своего энергетического экспорта. При этом туркменские власти не собираются ограничиваться исключительно поставками природного газа. Наряду с наращиванием мощностей химической отрасли 2, в последние годы ускоренными темпами продолжает развиваться туркменская электроэнергетика 3.
Пока трудно сказать, насколько успешными окажутся планы туркменского правительства по расширению экспорта электроэнергии. Однако даже если туркменскому руководству удастся разнообразить направления энергетического экспорта, суть внешнеэкономической стратегии Туркменистана останется неизменной: постоянное наращивание объемов энергетического экспорта, поступления от которого используются для проведения внутренних инфраструктурных преобразований и поддержания социальных обязательств перед населением. При этом следует отметить, что даже в нынешних условиях падения спроса и цен на природный газ Туркменистан остается относительно благополучным в социальном отношении государством.
Важнейшей особенностью туркменской ситуации является то, что стремление извлечь как можно большую выгоду из экспорта энергоресурсов создает угрозу для равноправных и стабильных отношений Туркменистана с крупнейшими международными игроками, действующими в регионе (Китаем, Ираном, Турцией, Россией, США и ЕС). Однако нейтральный статус Туркменистана пока оберегает Ашхабад от этой потенциальной опасности.
Избрание Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета в качестве основы своей внешней политики представляется чрезвычайно удачным решением. Следует отметить, что провозглашение Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета было одобрено специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 12 декабря 1995 г4. Это доказало, что туркменский выбор представляет огромную важность не только для развития самого Туркменистана и безопасности региона, но и для сохранения глобальной стабильности [Храмов, 2006, С. 12].
Туркменистан, обладающий значительными запасами углеводородного сырья, сразу же после обретения независимости попал в сферу интересов ведущих региональных и международных игроков. Статус постоянного нейтралитета Туркменистана позволил в значительной мере обезопасить туркменское руководство от последствий внешней конкуренции, в результате которой получение каким-либо внешним игроком преимуществ перед другими могло бы привести к обострению конфликтности. Поэтому туркменское руководство неизменно отказывалось и отказывается от любых внешнеполитических шагов, способных поставить под сомнение готовность Туркменистана придерживаться статуса постоянного нейтралитета.
Так, вследствие обострения в конце 2015 г. ситуации в Афганистане, министр иностранных дел РФ С. В. Лавров, находясь с визитом в Ашхабаде в январе 2016 г., предложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову российскую военную помощь. Туркменский лидер отказался от нее, несмотря на наличие объективных трудностей, с которыми сталкивается Туркменистан при охране протяженной (744 км) границы с Афганистаном 5. Туркменское правительство пока предпочитает обходиться своими силами.
Однако стремление туркменского руководства как можно скорее увеличить доходы от экспорта энергоресурсов вынуждает Туркменистан инициировать и принимать участие в экономических проектах, которые являются инструментом геополитической экспансии крупных международных игроков, прежде всего США, Китая и (в меньшей степени) ЕС. Это, в свою очередь, осложняет отношения Ашхабада с Москвой и Тегераном, превращая Туркменистан в невольного заложника борьбы за влияние в регионе.
Необходимо напомнить, что администрация США в середине 1990-х приступила к разработке стратегии глобального преобразования и освоения природных ресурсов прикаспийского бассейна, получившей название «Стратегия Шелкового пути для Центральной Азии». В основу данной стратегии (формирование которой было завершено к апрелю 1997 года) легла концепция, предполагающая ориентацию энергетического сектора региональных государств на масштабные экспортные поставки и неизбежную в такой ситуации борьбу «за свободу экспорта углеводородов» 6.
При этом США, создавая видимость взаимодействия с Россией на глобальном уровне, неизменно поддерживали политические инициативы лидеров бывших советских среднеазиатских и закавказских республик, направленные на выход из сферы российского влияния. Одновременно Вашингтон стремился привлечь как можно большее количество американских корпораций к реализации проектов, связанных с организацией нефтегазового экспорта из среднеазиатских республик, Казахстана и Азербайджана.
Главная цель таких «проектов века», как Транскаспийский и Трансафганский газопроводы, до сих пор остается неизменной. Она состоит в том, чтобы обеспечить доступ международных нефтегазовых гигантов к богатейшим газовым месторождениям на территории Туркменистана 7. Подобной политике активно сопротивлялся Сапармурат Ниязов. Его преемник, президент Гурбангулы Бердымухаммедов, оказавшийся в тяжелой социально-политической ситуации, сегодня находится (но пока еще сопротивляется) под еще большим давлением со стороны США, настаивающих на кардинальном изменении внутреннего законодательства Туркменистана, которое позволило бы американским нефтегазовым гигантам получить прямой доступ к богатейшим запасам природного газа, расположенным на суше [Lugar, 2012. P. 26].
В ноябре 1993 года по Соглашению с Правительством Туркменистана компания «US-CIS Ventures Inc.» (ее владельцами были бывший госсекретарь США Александр Хейг и Майкл Ансари) получила права на создание международного консорциума для реализации проекта строительства трансконтинентального газопровода «Туркменистан – Иран – Турция – Европа» 8. В его задачи входило проектирование, строительство, эксплуатация и владение трубопроводом. Для управления деятельностью консорциума был создан Межгосударственный совет нефтегазовых министров Туркменистана, ИРИ, Казахстана, РФ, Турции во главе с Президентом Туркменистана С. Ниязовым.
Двадцать шестого октября 1994 г. президенты Туркменистана и Турецкой Республики подписали предварительное соглашение, в соответствии с которым турецкая сторона брала на себя обязательства по закупке туркменского природного газа в течение 30 лет в обмен на гарантии наличия их запасов и газодобывающих мощностей.
Первоначальный проект был рассчитан на доставку в г. Догубаязит (Турция) на ирано-турецкой границе до 28 млрд м3 газа в год. Первые 15 млрд м3 из ежегодного объема предназначались для турецкого внутреннего рынка. Дальнейшая транспортировка туркменского газа, часть которого должна была поступить европейским покупателям, возлагалась на турецких партнеров. По предварительным оценкам, затраты на строительство газопровода в Иране, а также компрессорную и измерительную станции в Туркменистане, должны были составить $2,544 млрд 9. Однако данный амбициозный проект не был реализован по многим, в основном политическим, причинам.
Туркменистан вновь вернулся к идее строительства газопровода в 1997 году. В середине мая 1997 г. в Ашхабаде был подписан меморандум между Туркменистаном, Ираном и Турцией о строительстве газопровода «Туркменистан – Иран – Турция – Европа». Стороны согласились с предложением о привлечении туркменской стороной инжиниринговой компании для детальной технико-экономической оценки проекта газопровода по согласованию сторон. Годом ранее подготовкой технико-экономического обоснования проекта газопровода с согласия туркмен- ского правительства занялась французская компания «Софригаз» при финансовой поддержке правительства Франции и ряда других государств. Ряд европейских энергетических компаний выразили готовность участвовать в осуществлении проекта транспортировки туркменского газа. Среди них были итальянская «Шампроджетти», французская «Газ де Франс», а также англо-голландская «Роял Датч / Шелл».
Двадцать второго апреля 1997 г. деловое турне в Туркменистан совершила делегация представителей нидерландских нефтегазовых компаний. Ее возглавил посол Нидерландов в Туркменистане Г. В. де Вос ван Стеенвейк. Голландские специалисты побывали в городах Не-бит-Даг и Туркменбаши (бывший г. Красноводск). Туркменской стороной были предложены к рассмотрению предложения по разработке инвестиционных проектов как в области разведки и добычи углеводородов, так и в строительстве трубопроводов.
В результате переговоров англо-голландская компания «Шелл» летом 1997 г. получила эксклюзивное право заниматься вопросами формирования международного консорциума по транспортировке туркменского газа через Иран в Турцию и Европу. Лидерство этой компании в реализации трубопроводного проекта было подтверждено в Брюсселе в феврале 1997 г. За компанией также были закреплены право на подготовку технико-экономического обоснования проекта газопровода и эксклюзивные права на реализацию проекта строительства газопровода «Туркменистан – Иран – Турция – Европа».
Двадцать третьего февраля 1998 г. во время посещения в Брюсселе Комиссии Европейского сообщества президент Туркменистана встретился с руководством компании «Шелл» и подписал дополнительный меморандум о продвижении проекта.
Двадцать седьмого июля 1997 г. США заявили о своем согласии с проектом строительства газопровода «Туркменистан – Иран – Турция», который до этого не пользовался официальной поддержкой Вашингтона. Газеты «Вашингтон пост» и «Таймс», комментируя решение США поддержать строительство газопровода, отмечали, что данный проект технически не противоречит запрету на американские и зарубежные инвестиции в энергетический сектор Ирана в объеме более чем 40 миллионов долларов 10. Данное решение рассматривалось как акт поддержки США новых независимых государств, содействующий повышению экспортного потенциала нейтрального Туркменистана.
Однако вскоре изменилась международная ситуация (а вместе с ней и планы американской администрации по прокладыванию систем транспортировки энергоресурсов), и идею строительства газопровода «Туркменистан – Иран – Турция – Европа» сменил проект по созданию Транскаспийского газопровода. Газопровод протяженностью 2 тыс. км планировалось провести из Туркмении от месторождения «Шатлык» на востоке страны через Каспийское море, Азербайджан, Грузию в турецкий город Эрзурум. При этом, по оценкам «Шелл», стоимость Транскаспийского газопровода должна была составить не менее $4,2 млрд, что было выше по затратам, чем маршрут через Иран ($3,5 млрд) 11.
Данное обстоятельство доказывает, что маршрут экспорта туркменского газа определяется не столько экономическими соображениями, запросами потребителей или интересами Туркменистана, сколько внешнеполитическими расчетами американской администрации, использующей стратегические инфраструктурные проекты для усиления собственного геополитического влияния.
Во многом поэтому, несмотря на то что европейское направление газового экспорта для Туркменистана представлялось наиболее важным, туркменское правительство параллельно уделяло большое внимание организации поставок газа в Иран как конечному покупателю. Так, в июле 1995 г. между Туркменистаном и Ираном было подписано межправительственное соглашение о строительстве газопровода от туркменского месторождения «Корпедже» до местечка Курт-Куи (северный Иран). В соответствии с контрактом между Национальной иранской инжиниринговой и строительной компанией Министерства нефти Ирана («НИНИСК») и Миннефтегазом Туркменистана уже 29 декабря 1997 г. газопровод «Корпедже – Курт-Куи» (протяженностью около 200 км) был принят в эксплуатацию [Таимова и др., 2005. C. 57].
Строительство газопровода осуществлялось за счет иранской стороны. Туркменистан взял на себя обязательства погасить долг поставками газа (цена на который была установлена $40 за 1000 м3) в течение трех лет, исходя из следующего соотношения: 35 % объемов от поставляемого сырья (так называемый «инвестиционный объем») – в счет погашения долга, 65 % – так называемый «товарный объем». Иран, в свою очередь, гарантировал покупку туркменского газа на протяжении 25 лет. Согласно условиям соглашения, корректировка установленной цены газа ($40) могла быть решена сторонами в течение 6 месяцев после полного расчета за строительство газопровода, но не позже 1 июля 2001 г.
К началу 2001 г. Туркменистан не выплатил Ирану вложенные в строительство газопровода инвестиции (в строительство самой трубы). При этом Иран за объемы газа, получаемые сверх расчетных сумм за вложенные в строительство газопровода инвестиции (погашаемые «инвестиционными объемами» газа), в твердой валюте рассчитывался с Туркменистаном лишь частично (33 % из 65 % «товарного объема» газа). Остальные объемы «товарного» газа шли в счет оплаты иранским компаниям за их участие в реконструкции Туркменбашинского НПЗ, а также за строительство ими каолинового завода, элеваторов, строительство автотрассы Ашхабад – Туркменбаши и поставку в Туркменистан автобусов, химреактивов, удобрений, цемента и другой необходимой продукции 12.
Таким образом, расчеты Туркменистана на получение быстрой прибыли от реализуемого в Иран природного газа не оправдались. Более того, заместитель министра нефти Ирана Мехди Хашеми Бахрамани (сын бывшего иранского президента Хашеми Рафсанджани (1989–1997)) во время своего визита в Ашхабад 2 ноября 1999 г., подтвердив готовность ИРИ покупать туркменский газ в объемах от 8 до 11 млрд м3 в год, попросил снизить цену до 20 долларов США за тыс м3 (в 1999 г. средняя цена российского газа для стран Европы составила 91 доллар США за тыс м3).
Тегеран пытался давить на Ашхабад, вынуждая его гарантировать долгосрочные поставки больших объемов газа по устраивающим ИРИ ценам, поскольку опасался, что Сапармурат Ниязов под давлением администрации США примет решение экспортировать газ в первую очередь в Турцию, а не в Иран. Таким образом, переговоры Туркменистана с ИРИ об увеличении экспорта собственного углеводородного сырья приобрели яркую политическую окраску. Тем не менее, Ашхабад продолжал вести переговоры с Тегераном, не решаясь определить главное направление своего экспорта. При этом вопрос о возможности транзита туркменских углеводородов через ИРИ в Турцию так и не был снят с повестки дня. Он вновь и вновь поднимался при обсуждении туркмено-иранского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Однако каждая из сторон понимала, что для реализации данных планов нет необходимых политических условий (прежде всего из-за позиции США в отношении ИРИ).
Следует отметить, что и сегодня Ашхабад, пытающийся сохранить достигнутый уровень социальной поддержки населения, фактически остается заложником ситуации и не имеет возможности влиять на ее изменение. Как уже отмечалось, по постсоветским меркам Туркменистан остается довольно благополучной страной. Но сырьевая ориентация туркменской экономики превращает Туркменистан в заложника внешнеэкономической ситуации. Причем страна зависит не только от установившихся цен на углеводороды, но и от возможности (и готовно- сти) транзитных государств обеспечить доставку туркменских углеводородов на мировой рынок.
В настоящее время сотрудничество как с Россией, так и с Китаем не гарантирует Туркменистану роста объемов нефтегазового экспорта, способных предоставить государству необходимые средства для решения социальных проблем. Российско-туркменские отношения в 2015 г. вновь подверглись серьезным испытаниям, а 2016 г. начался с очередного витка противоречий в сфере нефтегазового сотрудничества, угрожающего привести к затяжному кризису.
В январе 2016 г. ООО «Газпромэкспорт» объявило о прекращении приема туркменского природного газа, а ПАО «Газпром» официально уведомило о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 г. До этого в течение долгого времени шли сложные переговоры по поводу снижения цены и объемов закупаемого «Газпромом» туркменского газа.
Нынешний конфликт, вызванный главным образом разногласиями по вопросу о ценообразовании, как по политическим, так и по экономическим соображениям невыгоден ни для России, ни для Туркменистана, которые, впрочем, и не стремятся его углублять. Однако пока трудно предсказать, смогут ли Ашхабад и Москва преодолеть имеющиеся противоречия и вернуться к нормальному сотрудничеству.
Не менее сложно складываются отношения Туркменистана с Китаем. Главная причина в том, что Туркменистан, использовавший во времена Сапармурата Ниязова китайские кредиты для модернизации инфраструктуры и строительства объектов социальной сферы, оказался в финансовой зависимости от КНР. Поэтому поставки газа в Китай не приносят Ашхабаду достаточного объема «живых денег».
Безусловно, участие Туркменистана в международных газотранспортных проектах может не только создать новые политические угрозы, но и открыть новые экономические возможности. Но для того чтобы они были реализованы, требуется сочетание нескольких факторов, наличие которых не зависит от воли туркменского руководства. Необходимо, чтобы в Центрально-Азиатском регионе была обеспечена хотя бы относительная стабильность, а противостояние между США и Китаем ограничилось бы Юго-Восточной Азией и не приобрело глобальный характер. Нужно, чтобы остановилось падение цен на углеводороды, ставящее правительства стран-экспортеров с сырьевой ориентацией экономики в практически безвыходное положение и провоцирующее в них рост социального недовольства. Кроме того, Туркменистану важно добиться нормализации отношений с Россией (а это вопрос не только туркменской, но и российской доброй воли). И пока перспективы разрешения этих вопросов выглядят туманными.
Список литературы Экономические интересы Туркменистана остаются в заложниках внешнеполитической ситуации
- Таимова Д. А., Глазовская Л. К., Мурадов Р. Г., Оразов А. Туркменистан к вершинам золотого века. Ашхабад: TDH, 2005. 369 c.
- Храмов В. М. Независимый нейтральный Туркменистан: 15 лет по пути созидания. Ашхабад: TDH, 2006. 389 c.
- Lugar R. Energy and Security from the Caspian to Europe / A Minority Staff Report prep. For the use of the Comm. on Foreign Relations, U.S. Senate, 112th Congress, 2nd session, 12 Dec. 2012. 63 p.