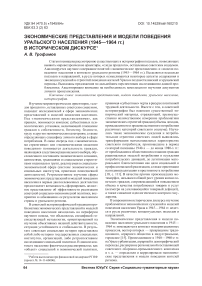Экономические представления и модели поведения уральского населения (1945-1964 гг.) в историческом дискурсе
Автор: Трофимов Андрей Владимирович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению существующих в историографии подходов, позволяющих выявить мировоззренческие ориентиры, «следы прошлого», оставленные советским социумом. Анализируется научное содержание понятий «экономические представления» и «модели поведения» населения в контексте уральского региона (1945-1964 гг.). Выделяется несколько подходов и направлений, в русле которых осмысливаются некоторые аспекты содержания и эволюции суждений и стратегий поведения жителей Урала в позднесталинский и хрущевский периоды. Высказаны предложения по дальнейшим перспективам исследованиям данной проблематики. Акцентировано внимание на необходимость комплексного изучения документов личного происхождения.
Экономические представления, модели поведения, уральское население, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/147151101
IDR: 147151101 | УДК: 94 | DOI: 10.14529/ssh160210
Текст научной статьи Экономические представления и модели поведения уральского населения (1945-1964 гг.) в историческом дискурсе
Изучение мировоззренческих ориентиров, «следов прошлого», оставленных советским социумом, подводит исследователей к сфере экономических представлений и моделей поведения населения. Под «экономическими представлениями», как правило, понимается комплекс субъективных психологических установок, включающий отношение граждан к собственности, богатству, бедности, труду и другим экономическим категориям, а также определяющих специфику личного выбора в сфере потребления. В свою очередь под «экономическими стратегиями» или «экономическими моделями поведения» понимается деятельность граждан, являющаяся следствием рационального выбора, обусловленного состоянием экономического сознания, ценностями, традициями и социальными стереотипами индивидов и групп, реализуемая в социальноэкономической сфере (системе экономических и социальных институтов, практиках повседневной деятельности). Ретроспективное изучение сферы экономических представлений и моделей поведения населения в первые два послевоенных десятилетия предоставляет возможность сформировать целостное представление об эффективности реализации советской социально-экономической политики, восприятии и «обживании» ее результатов населением страны и уральского региона.
В советской историографической традиции проблематика экономических представлений и моделей поведения населения находилась на периферии научного поиска, что объяснялось спецификой господствующей методологии, ориентированной на изучение объективных явлений действительности, ситуации устойчивости и стабильности. В результате советская социальная история представляла собой либо историю государственных социальных институтов, организаций, либо ретроспективное исследование социальной политики. В данном контексте население фактически рассматривалось как «объект» социальной и экономической политики, принимая «субъектные» черты в ракурсе позитивной трудовой деятельности. Вместе с тем, в советской историографии был накоплен существенный эмпирический материал, отражающий, преимущественно количественное измерение проблематики экономических стратегий граждан (объемы доходов, промышленного и продовольственного потребления различных категорий советского социума). Изучались также экономические суждения и потребительские стратегии советских людей выявлялись трансформации психосоциальных характеристик советского потребителя, произошедшие в период со второй половины 1940-х — до конца 1980-х гг.: от преобладания в общественном сознании граждан рациональных моделей потребления и осуждения потребительских девиаций, до легитимации материального благосостояния как цели социальной и профессиональной реализации, а также ориентации на индивидуализацию и престижность потребления [18, с. 111]. В качестве причин произошедших метаморфоз, назывался общий рост уровня жизни советских граждан, сопровождавшийся повышением объема и качества потребляемых товаров и услуг (несмотря на усиливающийся товарный дефицит), а также снижение идеологического контроля государства.
В современном историческом дискурсе изучение проблематики экономических суждений и моделей поведения населения Урала в 1945—1964 гг. ведется в русле различных концептуальных подходов и направлений.
Экономические представления и модели поведения населения уральского населения в 1945— 1964 гг. помещаются в контекст модернизационных процессов, вектор которых — превращение традиционного, аграрного общества в индустриальное, городское [15]. Происходившие в 1940—1960-е гг. на Урале урбанизация, аграрный и демографический переходы, расширение региональной составляющей советского оборонно-промышленного комплекса и т. д. — определяли и коррелировали экономические представления и модели поведения жителей региона.
В русле исследования пределов, возможностей и результатов советской модели мобилизационного типа развития и «мобилизационной экономики» [13; 14], отмечается, что мобилизационные стратегии имели определенный потенциал роста эффективности и производительности труда, однако, в исторической перспективе — не содержали в себе потенциала саморазвития. Коррективы, внесенные преемниками Сталина в мобилизационную модель развития, способствовали росту предприимчивости, инициативности, порой переходящих в пограничные или запрещенные советским законодательством формы экономического поведения (спекуляция, тунеядство и т. п.).
Обращение на региональном уровне к проблемам трансформации административно-директивной экономики в экономику согласования, в которой отношения между субъектами управления представляли собой не только отношения подчиненности, но и отношения обмена, предполагавшие действие принципа обратной связи. Смена моделей поведения управленческого корпуса в годы «хрущевских» реформ рассматриваются в контексте научно-технического прогресса и региональных особенностей управленческих реорганизаций середины 1950-х — 1960-х гг. [1; 2; 7].
Исследования, характеризующие экономические представления граждан об уровне материального благосостояния, практике «самообеспечения», «стандартах» потребления, качестве жизни уральского населения в 1945—1964-е гг. [6; 9; 11; 17].
Существовавшие в советской экономической модели дефекты и изъяны, сказывавшиеся на уровне и качестве жизни населения рассматриваются через неформальные социальные практики и «теневую экономику» (незарегистрированная хозяйственная деятельность с использованием государственных производственных ресурсов, технологические, финансовые, экологические нарушения официальных норм в целях личного и группового обогащения, взяточничество, искажения отчетной информации в интересах предприятий и ведомств, «криминальная экономика» (наркобизнес, проституция, спекуляция, ростовщичество, торговля краденым и т. п.), личное подсобное хозяйство). Исследователи отметили, что, резкий рост спроса на спекулятивные товары послужил импульсом для организации в 1940—1960-е гг. подпольными предпринимателями («цеховиками») их нелегальных производств с использованием государственного имущества, а в результате прихода к власти Н. С. Хрущева , отказавшегося от крайних методов авторитарного правления , в стране стало зримо проявляться такое социальное явление , как жажда наживы , ранее явно не выраженное , а порой и сознательно заглушаемое . Использование различных путей , способствующих личному обогащению , было в эпоху Хрущева вызовом советской системе , утверждавшей идеи равенства , уравнительности , стоицизма и отвергалось большей частью населения , не попавшей в номенклатурную обойму [19].
Реконструкции социокультурных практик, существовавших в 1950—1960-е гг., выполненные уральскими исследователями в жанре истории повседневности и микроистории [8; 12]. Они по- казали, как появившиеся в конце 1940-х — начале 1950-х гг. ферменты разложения, в последующее, послесталинское десятилетие вызывают к жизни разрушительные процессы, в частности, глухое недовольство всем и всяческим начальством со стороны городских и сельских низов, и даже лучшее качество жизни, обеспеченное для жителей закрытых уральских городов (ЗАТО) не стало залогом однозначно положительного отношения населения к существующей власти. А. А. Мордасов [16] отметил, что на Южном Урале в период «хрущевской оттепели» появились новые праздничные формы: посвящение в рабочий класс, хлеборобы; чествования героев пятилеток, трудовых династий; конкурсы по профессиям; слеты передовиков производства, наставников молодежи; трудовые вахты, ударные недели, месячники, красные субботники и воскресники; декады «Наука — производству», слеты рационализаторов и изобретателей, праздники первой зарплаты, проводы на пенсию.
Исследователи региональной уральской идентичности [5] отмечают, что ее определяющим концептом была миссия служения России, обусловившая формирование «уральского характера», т. е. ценностно-поведенческого комплекса, определяющего установки и поведение значительной части уральского населения, ставшего генетически и культурно-исторически выработанным феноменом, закрепленным поколениями людей в условиях специфической среды. «Уральцу» присущи: невозмутимое спокойствие и долготерпение в отношении тягот жизни; сдержанность, доходящая до суровости; выносливость; общинная взаимовыручка и взаимопомощь, «чувство локтя» и коллективизм; трудолюбие; религиозное «нестяжательство»; особая приверженность старине и традициям, консервативность взглядов; характерная сметливость, решительность, способность к самостоятельным решениям; свободолюбие; готовность к трудовому подвигу; патриотизм, «оборонное сознание»; осмысление благополучия своей судьбы только в контексте благополучия Родины и т. д. Уральцами в середине ХХ века были потомки рабочих и мастеров, в том числе многочисленные трудовые династии, чьи корни уходили во времена промышленного освоения Урала в XVIII—XIX столетия, и те, кто начал свои трудовые биографии в годы индустриализации 1930-х гг., а также был эвакуирован вместе с сотнями промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны и остался на Урале после ее окончания. Являясь регионом повышенной концентрации лагерных систем, Урал испытал все негативные последствия карательной политики государства. Лагеря Западного и Среднего Урала, служившие не только формой наказания, но ставшие образом жизни, оказали существенное влияние на все стороны общественного бытия края. Урал — место ссылки и эвакуации, что во многом определило своеобразие его этоса [10, с. 94—114]. Географическая эвакуация: Ленинград, Прибалтика, Украина, Москва способствовала привнесению западных, европейских элементов, включая профессиональные дискурсы и модели поведения. После войны Урал был определен и как место возвращения западной и восточной эмиграции (Шанхай, Харбин), которая сохранила русскую культуру, но с явственной экзотической прививкой. К 1950-м гг. Урал превратился в своеобразный «этнический котел», что не могло не сказаться на экономических представлениях и моделях поведения населения.
В целом, отметим отсутствие комплексных исследований проблематики экономических суждений и стратегий советских граждан на региональном уровне, с использованием междисциплинарных методов. Перспективными направлениями для дальнейших исследований представляются: изучение взаимообусловленности уровня жизни населения и выбора моделей экономического поведения; стереотипов и культуры потребления населения города и деревни; экономических взглядов и стратегий поведения различных категорий граждан (рабочих, служащих, интеллигенции, крестьянства); гендерные особенности.
Источниковую основу исследований, как правило, составляют статистические материалы и данные бюджетных обследований. Источники личного происхождения (письма, жалобы, дневники) используются, в основном, в качестве иллюстративного материала, отсутствует их системный анализ. При таком подходе исследователи могут реконструировать спектр оценочных суждений и стратегий поведения, но без выявления их доминантных проявлений и эволюционной динамики. Тогда как, письма, обращения, жалобы населения в органы власти и управления, хранящиеся в архивах уральского региона, помимо событийного контекста, содержат и другие значимые аспекты. В частности, о том, как повествует о событии агент, как через текст он воспроизводит ценностные ориентиры и поведенческие модели, как раскрываются посредством рассказа его представления об идеальном и желаемом, нужном и должном, нарушениях и правилах, субъективные суждения о плохих и хороших поступках в различных оценочных системах: «по правде», «по закону», «по-советски», «по-людски» и т. п.
Для детальной реконструкции пространства повседневных деятельностных стратегий и суждений уральцев, интерес представляют такие виды архивных документов, как: отчеты руководителей региональных партийных организаций об общественных настроениях в регионе, ходе реализации той или иной кампании (государственного займа, денежной реформы), материалы следственных органов и прокуратуры по экономическим преступлениям, результаты проверок на предприятиях общественного питания и в торговой сети, материалы органов партийно-государственного и народного контроля и др.
Список литературы Экономические представления и модели поведения уральского населения (1945-1964 гг.) в историческом дискурсе
- Буданов, А. В. Военно-мобилизационная работа на предприятиях Челябинского совнархоза в 1957-1962 гг./А. В. Буданов//Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века: сб. материалов Всерос. науч.конф. -Челябинск, 2009. -С. 168-174.
- Веденеев, О. А. Организационные реформы государственного управления промышленностью в СССР: историко-правовое исследование (1956-1987)/О. А. Веденеев. -М.: Наука, 1990. -256 с.
- Грушин, Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Эпоха Хрущева/Б. А. Грушин. -М.: Прогресс-Традиция, 2001. -624 с.
- Губарев, В. С. Секретные академики/В. С. Губарев. -М.: Алгоритм, 2008. -384 с.
- Казакова, Г. М. Культура Южного Урала: локальный вариант регионального измерения/Г. М. Казакова. -СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. -254 с.
- Клинова, М. А. Отражение нормативных стратегий потребления в советском модном дискурсе 1950-1960-х гг./М. А. Клинова//Человек в российской повседневности: история и современность: сб. ст VII Международной науч.-практ. конф. Пенза. Март 2014. -Пенза, 2014. -С. 62-66.
- Лебедев, В. Э. Научно-техническая политика советского общества во второй половине 1950-х -середине 1980-х гг. (региональный аспект)/В. Э. Лебедев. -Екатеринбург, 1992.
- Лейбович, О. Н. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции/О. Н. Лейбович. -М.: РОССПЭН, 2008. -296 с.
- Леонтьева, Е. А. Социальная политика на Южном Урале в период правления Н. С. Хрущева (1953-1964 гг.): дис. … канд. ист. наук/Е. А. Леонтьева. -Казань, 2013.
- Литературная жизнь Урала ХХ века: литературоведческая концепция музейной экспозиции. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. -152 с.
- Мамяченков, В. Н. Материальные условия жизни семей промышленных рабочих в 1953-1964 гг.: от Сталина до Брежнева: историко-экономическое исследование/В. Н. Мамяченков. -Екатеринбург, 2010. -253 с.
- Мельникова, Н. В. Атомный проект: власть в повседневной жизни закрытого города/Н. В. Мельникова//Государство и народ в условиях социалистического эксперимента: опыт ретроспективного анализа. -Екатеринбург, 2008. -С. 203-224.
- Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века: сб. материалов Всерос. науч.конф. -Челябинск: Энциклопедия, 2009. -571 с.
- Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века: сб. материалов II Всерос. науч. конф. -Челябинск: Энциклопедия, 2012. -662 с.
- Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу: сб. ст./отв. редактор В. В. Алексеев. -Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2011. -176 с.
- Мордасов, А. А. Праздничная культура Южного Урала в период «хрущевской оттепели»/А. А. Мордасов//Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусства. -2007. -№ 1 (11). -С. 73-85.
- Рясков С. А. Система жизнеобеспечения закрытых городов Урала/С. А. Рясков. -Екатеринбург: Полиграф, 2004.
- Трофимов, А. В. «Советский потребитель» в отечественном гуманитарном дискурсе 1950-1980-х годов/А. В. Трофимов, М. А. Клинова//Известия Уральского государственного экономического университета. -2014. -№ 4. -С. 107-113.
- Хазиев, Р. А. Будни зазеркалья социалистической экономики хрущевских времен/Р. А. Хазиев//Вестник Башкирского университета. -2011. -Т. 16. -№ 3. -С. 874-881.