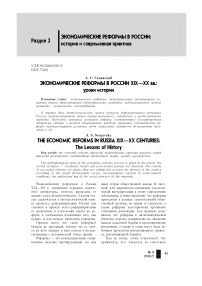Экономические реформы в России XIX-XX вв.: уроки истории
Автор: Сенявский Александр Спартакович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономические реформы в России: история и современная практика
Статья в выпуске: 2 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье дана методологическая оценка процесса реформирования экономики России: проанализированы итоги дореволюционного, советского и постсоветского периодов. Выделены критерии успешных реформ: соответствие долговременным интересам страны с учетом общемирового вектора развития, адекватность реформ социокультурным условиям, учет социальных интересов большинства населения и др.
Экономические реформы, индустриальная модернизация, аграрный вопрос, форсированное индустриальное развитие, мобилизационная модель развития, системность, квазиреформы
Короткий адрес: https://sciup.org/14723537
IDR: 14723537 | УДК: 94:338.24.021.8
Текст научной статьи Экономические реформы в России XIX-XX вв.: уроки истории
The methodological value of the economies reforms process is given in the article: the results of before — revolution. Soviet and post-sovient periods are observed. The criteria of successful reforms are given, they are: taking into account the interest of the country according to the world development vector, correspondence reforms to socio-cultural conditions, the understend ing of the social
Экономическим реформам в России XIX—XX в. посвящено огромное количество литературы, поэтому проводить ее анализ здесь нецелесообразно. Задача статьи заключается в методологической оценке процесса реформирования России как такового и прежде всего реформирования ее экономики, в извлечении опыта из реформ, в достижении понимания того, как нужно, и как нельзя проводить реформы.
Прежде всего, что такое реформы? Вопрос не праздный, потому что от ответа на него зависит и наш подход к их рассмотрению с исторической точки зрения.
Реформы — это целенаправленно совершаемые властью преобразования тех или
interests of the majority.
иных сторон общественной жизни. В советской, или марксистско-ленинской, идеологической интерпретации к этому определению добавлялись и иные признаки: что реформы проводятся в рамках существующей общественной системы, не меняя ее сущности, а также реформы категорически противопоставлялись революции. Как правило, пояснялось, что реформы в антагонистическом обществе нередко направлены на снижение накала классовой борьбы и предотвращение революции, а также и сами могут быть побочным продуктом революционного процесса, революционной борьбы.
Как ко всему этому относиться? Что принимать, что отвергать из советского методологического наследия? Безусловно, доля истины здесь есть.
Во-первых, реформы проводятся властью, как правило, чтобы укрепить положение самой власти и властной элиты, а значит, и обеспечить большую социальную стабильность.
Во-вторых, реформы и революции действительно противостоят по методам свершения: реформы проводятся сверху, социальные революции — снизу.
Однако по глубине преобразований реформы могут быть глубже и масштабнее некоторых революций. Так, Великая крестьянская реформа Александра II действительно изменила аграрный строй российской деревни, а поскольку общество в тот момент было аграрным, то и весь социально-экономический строй русской жизни. При этом я весьма критично отношусь к данной реформе и считаю, что в том виде, в котором реформа была проведена, она породила колоссальные противоречия на полстолетие вперед и корни двух русских революций начала XX в. — именно в реформах 1860— 1870-х гг. Хотя намерения у власти были прямо противоположные: избежать (преувеличенной тогда) угрозы крестьянского восстания, обеспечить социальную стабильность, создать условия для развития индустриального капитализма, преодолеть отсталость от передовых стран Европы, обеспечив, в частности, военную безопасность, столь актуальную после поражения в Крымской войне.
Мы знаем, что нерешенность крестьянского вопроса в 1860-х гг. (в условиях относительно благоприятных, ибо тогда еще демографический взрыв не привел к малоземелью во многих важнейших регионах страны) все равно вызвала необходимость решать его в начале XX в. в ходе столыпинских реформ, и вновь способ этого решения оказался неадекватным. Ключевой целью обеих реформ было сохранение помещичьего землевладения, хотя средства были противоположными: реформа Александра II укрепляла общину, столыпинская реформа ее разрушала. Однако обе они проводились за счет и против крестьян. Несмотря на восторженные оценки столыпинской рефор- мы многими современными историками, я в данном вопросе склонен скорее солидаризироваться с историками советскими: реформа была провальной. Но главным образом не потому, что мало крестьян вышло из общины и ушло на хутора и отруба и т. д. Дело в другом: ее результат оказался прямо противоположен объявленной цели: не успокоение России, а напротив, резкое повышение социальной напряженности в деревне, открытие новых социальных «фронтов» — раскол и противостояние внутри крестьянства, а главное, добавление к озлоблению крестьянства против помещиков, ненавистью к центральной власти, к монарху, который допускает такую несправедливость. До этой реформы в среде крестьянства доминировали монархические настроения.
Реформаторская деятельность С. Ю. Витте также приводится сегодня в качестве образца успешных и эффективных преобразований. В значительной степени это так. Однако «выигранное сражение еще не выигранная война», и даже очень крупный успех может обернуться катастрофой. В этом — диалектика, которую крайне редко осознают государственные мужи, обычно не умеющие просчитывать хотя бы на три-четыре хода вперед. Весьма успешный политик С. Ю. Витте также не сумел или не успел учесть ряд более чем значимых обстоятельств и противоречий. Его реформы работали на развитие города, который весьма быстро продвигался по пути индустриального прогресса, с использованием преимущественно западных финансов, технологий, ценностей и моделей жизни, тогда как традиционалистская деревня — т. е. более 80 % населения — оставалась в основном в прошлом. Город отрывался от своих корней и действительно становился «антагонистом деревни».
Революции 1905 и 1917 гг. и по задачам, и по социальной сущности не столько пролетарские, сколько крестьянские. Безусловно, они — продукт неполноты и неадекватности реформ второй половины XIX — начала XX в., которые оказались неспособны решить объективно стоявшие и давно назревшие проблемы. Революции решали те проблемы, которые не сумели решить реформы, и земельный передел 1917 г. (еще при Временном правительстве, кстати, юридически прекратившем столыпинскую реформу) стал способом решения аграрного вопроса в России, но отнюдь не окончательно.
Какие же выводы можно извлечь из дореволюционного реформирования?
-
1. Реформы — это всего лишь средство привести общество в соответствие с требованиями времени. Если эти требования поняты неправильно или реформы неверно или неполно отвечают этим требованиям, реформы могут только углубить и расширить масштаб противоречий и деструктивных для общества процессов, а в крайних случаях и сами вызвать социальную катастрофу.
-
2. Реформы должны отвечать на вызовы времени, причем не только ситуационные, но и долговременные, стратегические, которые, в свою очередь, определяются не только внутренними условиями, но и общемировыми процессами, вектором мирового развития. Главным для дореволюционной России был вызов индустриальной модернизации.
-
3. Реформы должны быть адекватны условиям реформируемой страны — социокультурным, природно-ресурсным и т. д. Либерально-консервативная вестер-низаторская модель развития, определявшая характер всех без исключения имперских реформ, оказалась неадекватна российской социокультурной почве и была отторгнута российским традиционализмом.
-
4. Реформы должны быть не частичными, хаотичными и разноплановыми, а системными, имеющими единый замысел, программу и методологию организации и проведения. Необходимо просчитывать всю совокупность последствий во всех сферах общественной жизни, даже если реформы касаются какого-либо узкого аспекта. Например, даже, казалось бы, удачные реформы С. Ю. Витте, способствовавшие индустриальному рывку России, без преобразования аграрной сферы не смогли обеспечить социальной стабильности в стране, да и экономически оказались лишены адекватной аграрной базы.
-
5. Реформы должны максимально учитывать собственно социальный фактор. Не
всегда экономический эффект является решающим. Например, поздний С. Ю. Витте уже понимал социальную неизбежность «черного передела» помещичьей земли в пользу крестьянства, хотя это и могло разрушить определенную часть передовых хозяйств. П. А. Столыпин избрал путь сохранения и постепенного вытеснения помещичьих латифундий и способствовал краху империи, а вместе с ней — помещичьего землевладения вообще.
Таковы лишь некоторые основные выводы из анализа дореволюционных реформ.
Но и со сменой модели общественного развития, с установлением советской власти Россия отнюдь не была избавлена от объективной необходимости решать всю ту же стратегическую задачу индустриальной модернизации. И советский реформаторский опыт также весьма поучителен.
Ранние советские руководители учились в основном на собственных ошибках, но они учились весьма быстро и успешно. От чрезвычайно «военно-коммунистической» модели перешли к НЭПу.
НЭП был всего лишь средством восстановить разрушенную экономику, но не мог быть средством развития, тем более форсированного. А такое развитие было объективно необходимо в ситуации враждебного окружения. Оно враждебным было и до революции, но теперь, во-первых, эта геополитическая и социокультурная враждебность усилилась по идеологическим причинам, во-вторых, СССР не имел сколько-нибудь значимых союзников (вплоть до своего распада, причем даже Варшавский блок представлял в экономическом плане скорее обузу для СССР, хотя и имел геополитическое и военное значение).
Переход к так называемому развернутому строительству социализма и явился средством форсированного индустриального развития в советской идеологической упаковке.
Все экономические реформы советского времени следует рассматривать именно в этом контексте. Они были рассчитаны на решение или ситуационных, конъюнктурных задач, или на обеспечение стратегических целей. В главу угла ставилась военная безопасность, тесно взаимосвязанная с развитием индустрии, науки и техники.
Следует подчеркнуть, что впервые со времени Великих реформ на рубеже 1930-х гг. реформирование осуществлялось системно, причем много более системно, чем Александром II. И это реформирование соответствовало социокультурной почве, на которой оно происходило. При всем моем согласии с рядом критических позиций по отношению к политике И. В. Сталина, нужно подчеркнуть, что именно им была создана целостная мобилизационная модель развития, одна только и способная в тех условиях обеспечить мощный экономический рывок всего лишь за одно десятилетие и обеспечить военноэкономическую готовность ко Второй мировой войне. Царская Россия, располагая гораздо большим временем и совокупностью принципиально более благоприятных внутренних и внешних условий, оказалась на это не способна и была разрушена.
Надо сказать, что и послевоенное восстановление экономики, которое Запад признавал «экономическим чудом», проводилось системно, в том числе и с помощью соответствующих реформационных действий.
Все последующее советское реформирование системным не было — ни хрущевские реформы, ни реформа Косыгина с последующими квазиреформами брежневского периода, ни андроповское «закручивание гаек».
При этом возникали другие вызовы времени: наступила эпоха НТР, а соединить, как призывали, НТР «с преимуществами социализма» никак не удавалось — за исключением освоения космоса, атомной энергетики и части оборонных отраслей. Все эти реформы не отвечали тем или иным принципам реформирования, которые я перечислил, оценивая дореволюционные реформы. На новые вызовы в социально-экономической сфере наследники И. В. Сталина не сумели дать адекватного ответа.
Отдельный вопрос — о реформах периода «перестройки». Необходимость реформирования была понятна всем. Но каковы должны были быть реформы?
Еще Наполеон говорил: «Это не преступление. Это хуже, это — ошибка», подчеркивая, что некомпетентность хуже любого преступления. Для лидеров страны это действительно так, хотя я не исключаю и собственно преступного замысла по развалу страны среди некоторых лиц из высшего советского руководства. Совершить одновременно столько глупостей за столь короткий срок, сколько было сделано Горбачевым и его окружением при реформировании, и сделать это несознательно — в это трудно поверить...
Конечно, полученное Горбачевым наследство, исходная ситуация были весьма неблагоприятными. Страна была еще при Брежневе подсажена на нефтегазовую иглу, а цены на нефть были сознательно обрушены американцами, что образовало дефицит в бюджете. Череда катастроф стала дополнительной финансовой нагрузкой. Но зачем было рубить сук на котором сидишь — лишать бюджет огромной части поступлений от алкоголя? Зачем было усугублять несбалансированность товарной и денежной массы и рост цен открытием каналов перекачки товарных и денежных ресурсов по закону о кооперативах? Таких примеров — десятки и сотни. Вместе они свидетельствуют о полном отсутствии концепции и стратегии реформ, не говоря уже о планах и четкой методологии реформирования. Горбачев нарушил и еще один непререкаемый принцип успешных реформ: разведение во времени политических и экономических реформ, проведение экономических реформ в условиях политической стабильности, а политических — при стабильности социальной, на фоне экономического благополучия. Исключение — только для преобразований, осуществляемых в условиях социальных катастроф, в противном случае сами реформы ведут к социальной катастрофе.
О системности реформ вообще говорить не приходится. Как будто сознательно реформы проводились в условиях нагнетания — именно сверху — «социальной истерии».
За всей этой глупостью прослеживается преступный умысел части властной элиты обменять власть на собственность, а точнее, добавить к политической власти власть экономическую.
Все это уже открыто проявилось в постсоветскую эпоху. Всем известны признания наших «младореформаторов», что форсированная приватизация была вызвана отнюдь не экономическими потребностями, а политическими целями, имела целью сделать смену модели развития необратимой, создав соответствующую социальную и экономическую базу для новой власти.
Возникает вопрос: может быть все же реформаторы 1990-х гг. были правы, а их реформы были эффективны, ведь их результаты вполне соответствовали замыслу? Они своего вроде бы добились?
Но критерий оценок реформ лежит в иной плоскости. Если объективно стоявшей накануне перестройки потребностью был перевод экономики с режима индустриального на постиндустриальный вектор развития (или, точнее, надиндустриальный, или супериндустриальный вектор и уровень), и эта задача была провалена, то в постсоветское время Россия лишь еще больше отдалилась от возможности решить эту задачу, проев советское наследство и развалив за 2 десятилетия на приватизированных предприятиях большинство высокотехнологичных производств. Наш пресловутый ВВП сегодня ниже уровня 1990 г.: едва реанимированная после дефолта 1998 г. экономика, лишь приближавшаяся по своим объемам к советскому уровню конца 1980-х гг. (при потере качества и вписавшись в мировой рынок в роли сырьевого придатка развитых экономик), получила то, чего и заслуживает. Подчинившись конъюнктуре и «законам рынка» в качестве «обслуживающей периферии», она мгновенно «скукожилась», как только в 2009 г. залихорадило «метрополии», охваченные кризисом (отнюдь не только финансовым), и