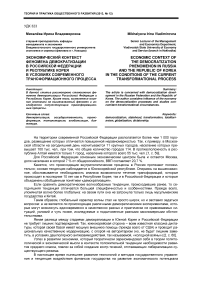Экономический контекст феномена демократизации в Российской Федерации и Республике Корея в условиях современного трансформационного процесса
Автор: Михалва Ирина Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрено становление феномена демократизации Российской Федерация и Республики Корея. Кроме того, выявляется влияние экономики на вышеназванный феномен и исследуются сопутствующие трансформационные процессы.
Демократизация, государственность, трансформация, тоталитаризм, глобализация, диктатура
Короткий адрес: https://sciup.org/14935037
IDR: 14935037 | УДК: 323
Текст научной статьи Экономический контекст феномена демократизации в Российской Федерации и Республике Корея в условиях современного трансформационного процесса
На территории современной Российской Федерации располагается более чем 1 000 городов, размещение которых отличается повышенной неравномерностью. Так, к примеру, в Московской области на сегодняшний день насчитываются 11 крупных городов, население которых превышает 100 тыс. чел., при том, что общее количество городов 114. В противоположность в республике Алтай имеется только 1 город, население которого всего 55 тыс. чел. [1, с. 59].
Для Российской Федерации основным экономическим центром была и остается Москва, доля населения в которой 7 % от общероссийского, ВВП составляет 20,7 %.
Кажется, что происходящие внутриполитические процессы в России протекают положительно; схожая тенденция наблюдается в Южнокорейской республике. Опираясь на вышесказанное, обосновывается необходимость анализа возможности течения трансформаций, которые происходят в последние 10 лет как в Республике Корея, так и в Российской Федерации и которые объединены обобщенным понятием «демократизация».
Если сравнить демократические волнообразные тенденции, происходившие ранее, то сегодняшняя тенденция отличается большей специфичностью и особенностями. Прежде всего, упомянутая волна более глобальна: на своем пути она не затронула только лишь мусульманские государства и Китай.
Таким образом, глобальный характер волны стал не просто широк, но и заставил задаться вопросом: а не является ли происходящее различными демократическими экспериментами, которые могут возникнуть единовременно в качественно разных и практически не сравниваемых ситуаций, условий и чуть позже, исследуемые и подытоженные разными закономерными обстоятельствами.
Явная разница между стадиями демократизации в Южной Корее и Российской Федерации не требует лишних подтверждений. Так, южнокорейская сторона – всем известная классика диктатуры, которая своей базой имеет мощную внешнюю помощь (прежде всего от США) и проводит рациональную качественную модернизацию, с опорой на авторитаризм (но, не будет лишним заметить, в условиях двухполярного антивзаимодействия, так называемой, «холодной войны») [2, с. 60].
Успех в развитии экономики, который теоретически зарекомендовал себя в теории политологической и экономической мысли в контексте положительной тенденции необходимости развития среднего класса, повлек за собой создание контр-течений, отстаивающих либерализацию существующего режима.
В настоящее время нынешнее развитие технологий и методов государственного управления и тенденция воздействия финансов государства на развитие экономического потенциала страны представляется высокозначимым аспектом. Тем не менее, наличие бюджетного дефицита и возросший объем государственного долга, налоговые выплаты с реально действующего сектора экономики, уровень суженности сегмента со стороны государственного управления влекут за собой тенденции изменения среды национальной экономики.
Упомянутый контекст системы регулирования государственных финансов в Южной Корее и вызывает повышенный исследовательский интерес.
Сейчас южнокорейская экономика одна из динамично развивающихся мировых экономик.
В последние 50 лет в Южной Корее наблюдается положительная тенденция по созданию абсолютно конкурентоспособных предприятий с мировым именем. Одна из таких отраслей – автомобилестроение (Hyundai-motors, Kia-motors); не меньше заслуживает внимание производство телекоммуникационных мобильных систем (Samsung), производитель оффшорных установок и кораблестроитель (Hyundai heavy industries) и сталелитейная компания POSKO [3, с. 19].
В контексте сказанного, возникает необходимость исследовать государственную южнокорейскую систему финансов и выявить ее ряд основных характеристик, определяющих структуру и сущность.
Бюджетная система Южной Кореи представлена двумя уровнями: первый – это бюджет центрального правительства и местный бюджет; второй – подразделяется на 6 бюджетов крупных городов и 9-ти провинций, также бюджетные составляющие малых городов и территориальных образований, которые находятся в подчинении местных органов власти.
Особого внимания заслуживают государственные финансы Южной Кореи, для которых характерен всего лишь один Генеральный счет и 20, так называемых, Специальных счетов; также имеются 57 государственных фондов.
По состоянию на 1 января 2013 г. южнокорейская экономика была на 14-м месте в мире по уровню преобладания покупательской способности и на 10-м – по фактическому уровню ВВП [4, p. 11].
В строительстве рыночной модели органы государственной власти Республики Корея сыграли приоритетную роль, благодаря которой государство имеет сегодняшнее динамичное и устойчивое развитие. Если вернутся немного в историю, то южнокорейское государственное планирование берет свое начало с 1954 г., с так называемого плана «Натана», который привлек внимание международной интеграционной группировки ООН, но был не совершенен. Тем не менее, данный неудачный опыт и укоренил модель плановой, южнокорейской экономики.
На 1 сентября 2011 г. только в 2-х субъектах РФ исполнение бюджетов осуществилось с дефицитом.
Следует отметить, что, усматривается рост налоговых и неналоговых доходов региональных и местных бюджетов, зафиксированных за 8 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в размере 118,9 % в целом по стране [5, с. 20].
Обратимся к анализу, благодаря которому необходимо обозначить отправные точки сравнения, в частности, контекста поставторитарной и посттоталитарной трансформаций.
Опираясь на сказанное, необходимо определить, на какие критерии сравнения будет ставиться акцент. Представляется целесообразным выделить следующие аспекты, опираясь на которые проводится анализ как России, так и Южной Кореи. Прежде всего, это восприятие демократических тенденций как законодательно закрепленных идеалов и отправных точек социальных реформаций. Следующий фактор – всеобщая социальная притягательность общедемократических стереотипов как последствия всеохватывающих внутрикультурных тенденций, возникших под влиянием прозападных веяний.
Далее усматривается постоянное и положительно движимое развитие демократических прав и свобод. Как следствие, их апробирование в демократических процедурах и институтах государства и общества.
Начиная с 90-х гг. XX в. достаточно ярко проявилась экономическая неэффективность авторитаризма [6, с. 10]. Упомянутое политическое явление не зарекомендовало себя как показатель социальных преобразований. Например, в Южной Корее, отличающейся качественными показателями и яркостью течения, постепенно истощился авторитаризм.
Исходя из вышепроведенного анализа, напрашивается следующий вывод: вне всякого сомнения, усматриваются частичные схожести между, казалось бы, феноменально отличительными моментами демократизации как Южной Кореи, так и России. Кроме того, исследованные ранее экономические тенденции протекали, конечно, по-разному, имели разные источники, но повлекли за собой становление одного и того же феномена-демократизации, порождением экономического контекста которого в Южной Корее стал тоталитаризм.
Ссылки:
-
1. Ваисс М. Международные отношения после 1945 г. / пер. с франц. М., 2009.
-
2. Ву Нам. Опыт экономического развития Республики Корея в условиях рыночной системы. М., 2011.
-
3. Шипаева В.И. Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства. М., 2010.
-
4. Yang J.M. Supporting interdisciplinary research projects. Seoul: Korea Research Foundation, 2011.
-
5. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. 2011. № 5.
-
6. Ли Ин Хо. Заложить крепкую основу для процветания / ред. Кашлев Ю.Б. и другие // Дипломат. акад. МИД РФ. Рос
сийско-Корейский форум (докл. и выступл.). М., 2009.