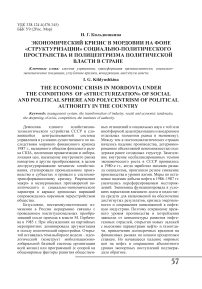Экономический кризис в Мордовии на фоне «структуризации» социально-политического пространства и полицентризма политической власти в стране
Автор: Кильдюшкина Ирина Геннадьевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
В исследовании проводится анализ макро- и мезоуровневых противоречий политического и социально-экономического свойства в каркасе кризисных трансформаций транзитного общества.
Система управления, трансформация промышленности, социально-экономические тенденции, углубление кризиса, конкуренция, институты власти
Короткий адрес: https://sciup.org/14720757
IDR: 14720757 | УДК: 338.124.4(470.345)
Текст научной статьи Экономический кризис в Мордовии на фоне «структуризации» социально-политического пространства и полицентризма политической власти в стране
Демонтаж единого хозяйственнотехнологического устройства СССР и сложившейся централизованной системы управления в условиях существенного по последствиям мирового финансового кризиса 1987 г., вызванного обвалом фондового рынка США, поспешная приватизация и либерализация цен, насыщение внутреннего рынка импортом и другие преобразования, в целом деструктурировавшие механизм хозяйствования, стагнировали промышленное производство в субъектах и привели к системнотрансформационному кризису. Разрешение макро- и мезоуровневых противоречий политического и социально-экономического характера в каркасе кризисных вариаций сопровождалось коренным переустройством общества.
Безусловно, посткоммунистические изменения в России неразрывно связаны с проведением институциональных преобразований после прихода к власти М. Горбачева в 1985 г. При обсуждениях на партийных мероприятиях доминировала аргументация в пользу политической перестройки. Открытой оставалась тема выбора ее модели – идеологической (конструкт мобилизационнолиберальной базовой системы организации всей жизни) или программной (с опорой на общемировые факторы развития обществен- ных отношений и социальных наук с той или иной формой децентрализации и внедрением отдельных элементов рынка в экономику). Между тем в постсоциалистических странах началось падение производства, детерминированное объективной невозможностью поддержки ранее созданных структур. Замедление внутренне несбалансированных темпов экономического роста в СССР проявилось в 1980-е гг., когда заработал маховик развала социализма, произошло резкое снижение производства и уровня жизни. Меры по остановке падения добычи нефти в 1986–1987 гг. увенчались перефорсированием месторождений. Экономика функционировала в условиях нарастания внешнего долга и недостатка средств для капвложений на обеспечение достигнутых результатов, кризиса энергоемкости и сокращения капвложений в нефтяную индустрию. Поэтому сохранение прежнего уровня производства и потребления зависели от конъюнктуры развития нефтегазовых отраслей, открытия новых залежей с высокими параметрами нефте- и газоотда-чи, привлечения долгосрочных кредитов на финансовых рынках по низким процентным ставкам. Но начавшееся падение мировых цен на нефть и сокращение абсолютного уровня экспортных поступлений подтверждало обратное.
К середине 1980-х гг. Советский Союз подошел с проектом реформ, не представлявшим целостной системы. В разработке Комплексной программы НТП участвовали представители всех поколений реформаторов: Н. Федоренко, С. Шаталин, А. Анчишкин, Н. Петраков, А. Аганбегян, Е. Ясин, Е. Гайдар, Г. Явлинский и др. Концепция совершенствования хозяйственного механизма, подготовленная в 1960–1970-е гг. ведущими экономистами страны, опиралась на невозможность управления из «единого центра» без стимулирования экономических агентов к развитию производства и обновлению продукции; расширению их самостоятельности в принятии решений при сохранении созданного фундамента [12; 44–46]. Ее отличия состояли в следующем: во-первых, в ней предлагались меры по активизации деятельности предприятий и работников, общая макроэкономическая сбалансированность обеспечивалась административно Госпланом и директивными органами, инерционная устойчивость экономики рассматривалась как данность, независимая от институциональных факторов; во-вторых, умалчивалось о реформе собственности, за исключением кооперативной (подобные новации были опасны для карьеры); в-третьих, вместе с задачами оптимизации ценовых пропорций в преодолении товарного дефицита дискуссионным был вопрос о государственном ценообразовании.
Общие недостатки провозглашенного М. Горбачевым курса на обновление сложившейся системы отношений определили его практическую неосуществимость по причине объединения в документе наилучшего из двух систем и отсутствия примеров апробации. Политические расчеты генсека по укреплению личных позиций во власти, надвигающийся экономический и системный кризис задерживали процессы формирования целенаправленной экономической политики. Главными компонентами ускорения советской экономики в разрешении возникающих проблем являлись новый формат индустриализации (усиление развития машиностроения) и «культурная революция» с включением в нее элементов нового стиля политического руководства и антиалкогольной кампании. Синхронно проводились трансформация системы органов управления народным хозяйством (создание одних ведомств и ликвидация других) и «кадровая революция» (комплекс мер по обновлению и омо- ложению кадров). Имевшаяся к этому времени программа экономических преобразований в СССР прорабатывалась в контексте хозяйственной реформы 1965 г. с реализацией осторожных инсинуаций, описываемых термином «рыночный социализм». Концепция комплексной экономической реформы предполагала расширение самостоятельности предприятий (перевод их на полный хозрасчет, самофинансирование и частичное самоуправление), развитие индивидуальной и кооперативной форм собственности, привлечение иностранного капитала в виде совместных предприятий. Но ее микроэкономическую ограниченность усиливала потребительская направленность предприятий в ущерб инвестиционной. Ослабление централизованного контроля, сопровождаемое повышением роли трудовых коллективов и ущемлением полномочий директоров, введение выборности управленческого корпуса для задействования нестандартных рычагов улучшения ситуации привело к негативным факторам [22; 28]. Самостоятельность предприятий не подкреплялась повышением ответственности за результаты работы, подрывалось положение директоров, ставших к середине 1980-х гг. их фактическими собственниками, обостряя приведение в соответствие формального и реального статуса владельца. Так менеджеры высшего эшелона власти практически освободились от контроля государственной бюрократии и коллективов, заинтересованных в быстром росте зарплаты и фондов потребления. Возможности частнопредпринимательской активности создавали фон для обслуживания интересов узкой группы руководящей элиты. Вопрос же о реформе отношений собственности не поднимался до 1990 г.
Модификация традиционных секторов и форм собственности сочеталась с непродуманными шагами в новых областях экономической деятельности. Признание кооперативов частными предприятиями не завершилось формированием адекватных правовых форм. Существующие инструкции побуждали создавать кооперативы при государственных объектах, усиливая разрыв между ростом доходов населения и производством, ухудшая торговый баланс и ситуацию с внешним долгом СССР. М. Горбачев в 1989 г. мог ужесточить экономический режим реализацией мер ценового и фискального воздействия, но правительство контролировалось популистски-настроенным депутатским корпусом [23, с. 24–25, 91]. К тому же начавшиеся революционные процессы в стране ослабили государственную власть, способствуя неприемлемости принятия решений в ценообразовании, налоговой системе и приватизации.
В целом социально-экономические тенденции в стране развивались на фоне постепенного углубления кризиса, быстрой «структуризации» политического пространства с оформлением разнообразных групп интересов, возникновения полицентризма власти и конкуренции между властными институтами. Экономический кризис и усиление дезинтеграции политического поля задерживали развитие институциональных процессов в Мордовии. При ослаблении полномочий федерального центра происходила трансформация политических структур, готовых удовлетворять потребности определенных слоев населения. В деятельности союзного правительства превалировали краткосрочные мотивы, отсутствовал стратегический подход к нивелированию сложившихся противоречий. При неуклонном падении его авторитета в противостоянии с официальным центром и отсутствии конструктивных антикризисных мер или программы реформ экономика превратилась в заложницу политической борьбы. Начало «войны за бюджет» в форме отказа союзных республик перечислять налоги в федеральное казначейство и переход к одноканальной системе сбора налогов усилило личный контроль в расходовании средств. Борьба за налоговую базу и подконтрольность предприятий союзному (или республиканскому) руководству вынудили правительства СССР и России снизить налоги субъектов подведомственной юрисдикции. Однако поступления в бюджет неуклонно снижались. Предоставление предприятиям свободы в установлении оптовых цен не подкреплялось изменением розничных цен, а рост расходов бюджета в ходе субсидирования повлекло снижение налоговых поступлений с оборота. Введение с 1991 г. 5 % налога с продаж (привязанного не к оптовым, а розничным ценам) ухудшило положение федерального бюджета, в том числе в сельском хозяйстве. Принятие СМ СССР резолюции о повышении закупочных цен на продовольствие с осени 1990 г. для устранения дефицита подорвало интерес сельхозпроизводителей (обслуживание текущего оборота и уплата налогов стали возможны после продажи меньшей части продуктов).
В диспуте об ответственности за повышение розничных цен союзное правительство склоняло руководителей республик к принятию совместного решения, но их отказ вынудил сделать это самим весной 1991 г.
Одновременно с этими процессами разрабатывались различные программы экономических реформ: 1) союзного правительства (руководители: Л. Абалкин и Н. Рыжков; 2) «Пятьсот дней» (С. Шаталин и Г. Явлинский); 3) рыночных реформ Института экономической политики (ИЭП) (Е. Гайдар). При наличии трех вариантов проведения антикризисных мер (радикально-либерального, умеренного и консервативного) авторы официального правительства заявляли о приверженности второму пути – отрицание быстрого вхождения в рынок через либерализацию и приватизацию, консервация экономических отношений и усиление административных начал в управлении, наиболее плавное и наименее болезненное вступление общества в рыночное состояние . Вырабатывались два концептуальных подхода к преодолению кризиса. С. Шаталин и Г. Явлинский (1990 г.), Е. Гайдар с единомышленниками из ИЭП (1991 г.) придерживались рыночно-либеральных позиций – приватизации собственности и либерализации цен. Концептуальным манифестом противостояния российских и союзных институтов власти была программа «Пятьсот дней», которая носила технократический характер и создавалась в обстановке гибели союзного центра и политической ответственности российской власти за антикризисное управление. По модели «административной стабилизации» (остановка процессов демократизации или частичный их поворот вспять, повышение уровня управляемости в народном хозяйстве и обеспечение макроэкономического порядка с императивом модернизации экономики) быстрый переход к рынку угрожал экономической константе. В 1991 г. с отставкой Н. Рыжкова и формированием Кабинета министров В. Павлова, подотчетного М. Горбачеву, была предпринята первая попытка стабилизации, выразившаяся в разгоне демонстраций в Вильнюсе и Риге, обмене денежных купюр высокой номинации. Курс на поддержку ВПК и машиностроения провозглашался в формате повышения цен (предложены законопроекты, утверждающие сценарий регулируемого товарного рынка). Проявлением политиче- ской консолидации стал государственный переворот 19 августа 1991 г., поддержанный общественно-политическими силами. Но его поражение и дальнейшее обострение экономической обстановки потребовало конструктивизма. Либерально-рыночный вариант при двусмысленности перспектив проводимых инноваций (сочетание временного ухудшения положения, частной собственности и рынка, и непринятие свободы цен) опирался на широкую политическую поддержку и популярность Б. Ельцина.
Итак, экономическая политика на этапе перестройки и в начале 1990-х гг. синергиро-вала основные контрпродуктивные ошибки команды Горбачева, позволившие конкретизировать механизмы системного экономического кризиса: крах экономической стратегии двух предшествующих десятилетий, связь бюджетного дефицита с антиалкогольной кампанией, попытка форсировать экономический рост и выход денежной массы из-под контроля, усиление инфляции и экспансия социальных расходов, валютный кризис, вывоз золотого запаса и конфискация валютных счетов предприятий, государственное банкротство и коллапс иерархической экономики. Урбанизация, расширение информации о внешнем мире, появление мощной демократической волны и среднего класса расшатывало тоталитаризм, приводя к крушению политических и экономических институтов социализма от центра к периферии. При отсутствии универсальных рецептов поддержания высокой продуктивности было ясно одно – методы, приемы, системы и принципы управления людьми необходимо постоянно обновлять, адаптируя их к изменениям внешней среды и развитию живых систем (людей, групп и организаций). Наша страна старательно копировала все худшее из «их» экономики, пытаясь сохранить все наиболее косное из директивных методов управления советского периода. Развитие современных концепций менеджмента в виде синтеза передовой научно-технической мысли и предвидения перемен базировалось на работах Ф. Тейлора по вопросам планирования и контроля качества, установления ответственности за результаты труда и его научной организации, определения значимости перестройки сознания работника. В продиктованных временем российских проблемах наметились будущие циклы У. Деминга, по- ложения К. Исикавы и других ученых, ставивших исконные вопросы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Есть ли выход?». Курс на демократизацию, гласность, построение новой политико-правовой и экономической архитектуры привел к остановке фабрик и заводов, спаду производства, возникновению реальной угрозы голода, гиперинфляции и безработицы. В социуме формировалось состояние недовольства, возмущения, апатии, усталости, неверия и безразличия, трансформируемое в негативное отношение к существующим структурам власти, порождая политическую нестабильность и забастовочные движения, митинги и иные акции протеста. Перерастание экономической борьбы в политическую отразилось на уровне общей политизации общества, накапливая энергию для последующих конфликтов [6; 19; 35].
В дни августовского путча 1991 г. в Мордовии сохранялась рабочая обстановка с повсеместным функционированием конституционных органов государственной власти и управления. Городские, районные Советы народных депутатов и население поддержали меры, осуществляемые Президентом СССР М. С. Горбачевым, Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и руководством РФ по восстановлению в стране конституционного порядка. Вместе с тем руководители отдельных общественных организаций, учреждений, народные депутаты избрали выжидательную тактику в отношении противоправности антиконституционного комитета. В связи с этим президент В. Д. Гуслянников вышел с программой действий правительства МССР на период стабилизации экономики [15; 30], называя основной ошибкой российского правительства непоследовательность проведения реформ. По его мнению, либерализовать цены следовало после демонополизации и приватизации, в качестве долгосрочных мер принять земельную реформу, ввести различные формы хозяйствования, предпринимательство и другие новации, а в числе срочных – увеличить доходную часть бюджета. Однако этот документ подвергся серьезной критике со стороны Председателя ВС МССР Н. В. Бирюкова по причине отсутствия в нем оценки возможностей республики и некон-кретности, т. е. от исполнительной власти ждали незамедлительных действий. При конфронтации исполнительной и законодательной ветвей власти в парламенте прави- тельство не драматизировало создавшуюся ситуацию. Лидер Мордовии объяснял это активизацией противников реформирования экономики, производственно-бюджетной и кадровой системы.
Одновременно в городах создавались оргкомитеты, инициативные группы по проведению референдума о смещении Президента Б. Н. Ельцина и отставки его правительства, изменении курса внутренней и внешней политики, приостановке реформ. В накале политических страстей народ поддавался митинговой стихии и агитации ура-патриотических подпевал. Правительство республики не применяло законодательства для конституционной защиты, команду В. Д. Гуслянникова обвиняли в злоупотреблениях, растранжиривании народных денег и т. п. Манипулирование общественным мнением носило объективный характер – вместо призывов к созиданию слышались обращения к противоправным действиям. В заявлении Конституционного суда РФ отмечалось, что «если Верховный Совет России и другие представительные органы власти, Президент и правительство, правоохранительные органы будут и далее проявлять медлительность в осуществлении возложенных на них функций по защите конституционного строя, страна не гарантирована от социального взрыва, анархии и разрушения» [2; 13]. В республиканской прессе содержались выводы о 100 днях работы президента МССР и его администрации [18]: невыполнение предвыборных обещаний – передача административных зданий социокультурной сфере, сокращение аппарата управления; просчеты в кадровой политике – отсутствие конкурсного экспертного отбора и тестирования при подборе, всестороннего мониторинга с учетом «прошлых заслуг» кандидатов; предпочтения «демократам» и лицам, подвергшимся «гонениям», не по уровню квалификации и работоспособности (назначения сотрудников, глав администраций и представителей президента на должность лишали президентский корпус поддержки); нерасторопность правительства в освоении новых методов управления – келейность и неколлегиальность принятия решений, отсутствие их предварительной научной экспертизы; низкая информированность населения о работе правительства, бездеятельность по его привлечению на свою сторону и про- гнозированию психологического климата; слабая организация правовой работы и беззаконие (незадействованность в экспертизе Минюста, правоохранительных органов и правительства, их некомпетентность в функциях контроля); отсутствие политической гибкости и контроля за ситуацией для адекватного реагирования. Противостояние и конфронтация сводили на «нет» все усилия. Члены администрации, заявлявшие о реакционности и неспособности ВС конструктивно работать, вызывали всеобщее недоумение содержанием, стилем изложения и безграмотностью своих выступлений в СМИ. Различные политические партии предлагали практические методы управления президентским аппаратом. Демократы пропагандировали преимущества рынка, декларируя приватизацию государственной собственности и муниципалитетов. Компартия блокировала реформы, продолжая борьбу за идеалы светлого будущего.
Мордовия в период перехода от административно-централизованного управления до рыночного регулирования экономики жила без конкретного плана развития, хотя правительство пыталось соединить в проекте стабилизации тезисные ориентиры со свободой маневра (в 1992 г. они были забракованы ВС из-за неподкрепленности конкретными цифрами). По мнению первого заместителя главы правительства А. В. Гармашова, в соседних областях аналогичных документов не разрабатывалось. После согласования текста нового варианта с депутатским корпусом, членами постоянных комиссий ВС и изучения встречных предложений и уточнений в нем все же отсутствовали рекомендации (за исключением ответа председателя планово-экономической комиссии ВС М. П. Яушева). Анализ российской «Программы углубления экономических реформ» позволил заключить, что она имеет завершенный вид. Положительно ее оценивал и член Президиума ВС МССР заместитель министра сельского хозяйства В. А. Скопцов, в том числе в вопросах недопущения резкого ценового скачка и сохранения в регионе производимой продукции [4, с. 74; 14; 31].
Министерство сельского хозяйства МССР находилось под прицелом претензий развала отрасли, коррупции и неграмотности специалистов-аграриев. В условиях резкого спада покупательной способности населения вывод сельского хозяйства из кризиса виделся в принятии программы по уборке урожая, установлении цен на продукты земледелия, законодательной инициативе по созданию фонда внебюджетной поддержки села. Сельхозпроизводителей возмущал государственный диктат цен на продукцию (промышленники устанавливали ее сами). Нарушение ценового паритета обанкрочивало агросферу, требуя безотлагательного дотирования из республиканского и федерального бюджетов [20; 25; 27; 32; 36–38]. Продовольственные перспективы зависели и от наличия в колхозах запчастей и ГСМ, наполнения госре-сурсов хлебом, правительственных гарантий сдерживания резкого повышения цены на хлеб и консенсуса взаимоотношения законодательных и исполнительных органов власти.
На VI съезде народных депутатов консервативные силы осложнили общественнополитическое поле и обстановку в республике, связанную с аспектами возрождения мордовского народа, развития его самосознания и культуры. Первые шаги нового правительства выразились в опрометчивости ряда заявлений и неоправданных назначениях на руководящие посты лиц, не знакомых со спецификой, бытом, культурой и психологией жителей Мордовии. Оно решало нацво-просы в русле подъема благосостояния, признания приоритета прав и свобод личности. Кризис экономики и духовности подытожил шесть лет его деятельности в атмосфере нерешительности, пустых разговоров о перестройке и рынке. Отсутствие опыта дополнялось психологической неподготовленностью общества: демократия – популистской демагогией, вседозволенностью и анархией, цивилизованный рынок – спекуляцией, мафией и диким рынком, свобода слова – сведением счетов и местью. В обстановке безвластия и беспорядка только авторитетная исполнительная власть в консолидации с законодательной и при поддержке народа могла вывести из хаоса и нищеты. По оценке замминистра образования И. И. Карпова, проблема защиты языка и национальной культуры была спровоцирована тем, что в предвоенные годы в регионе было 508 национальных школ, в 1992 г. – 353. Председатель комиссии по нацвопросам А. П. Тимошкин предложил отложить принятие Закона МССР «О языках в Мордовской ССР» из-за неясности веде- ния деловой документации на трех языках и перечня должностей, которые можно занимать, владея одним из них (министр печати, директор книжного издательства, министр просвещения и т. д.), встретив альтернативные точки зрения (ученые И. А. Ефимов, С. Б. Бахмустов, Б. Ф. Кевбрин, И. К. Инже-ватов, Н. Ф. Мокшин и ряд депутатов). В итоге проект в первом чтении рассматривался на 10-й сессии ВС МССР двенадцатого созыва (11 июня 1992 г.), а на следующей сессии он постатейно обсуждался [3–5; 10–11; 33].
На 10-й сессии ретроспективно оценивалось ведение законотворчества в республике. Так, в неутвержденной 8-й статье бюджета фигурировали образование, здравоохранение, СМИ, культура и т. д. Отказ финансирования общества мордовского народа объяснялся недостатком средств местного бюджета. Бюджетный допинг применялся и к газетам, несмотря на борьбу депутатов В. И. Василькина, Б. Ф. Кевбрина, Н. И. Меркушкина, Н. В. Сторожева и Б. Е. Сыропятова за финансовую ремиссию прессы. Правительству предстояло разработать план преодоления дефицита бюджета в 203,3 млн руб., хотя нашлись средства на повышение зарплаты на 50 % к существующим окладам руководству ВС и Правительства и «депутатских» до уровня «минималки» – 900 руб. в месяц на каждого (1 825 тыс. руб. в год) с учетом кадровой ротации аппарата управления [33; 42].
Период «структуризации» социальноэкономического пространства и полицентризма политической власти в Мордовии характеризовался противоречивыми тенденциями. Сессионный кворум на заседаниях парламента часто балансировал на грани 1–2 чел., указывая на пренебрежительность к избирателям. Бесплодное времяпровождение депутатов ВС МССР (12-я сессия завершилась без принятия резолюций по нивелированию сложившейся ситуации), конфронтация и ярко выраженная политическая окраска дебатов уводили от насущных дел. Парламентская «незавершенка» проекта закона о Конституционном суде, поправок к Конституции и разделения собственности по уровням подчинения выражалась диаметрально противоположным отношением его организаторов. Несмотря на перепалки и бесконечный дележ власти, был достигнут консенсус в вопросах платы за землю, дорожного фонда и бюджетной системы [7;
17]. От принятия закона, определяющего вектор политического развития (по парламентскому или президентскому сценарию) и взаимодействия ветвей власти на основе обоюдных компромиссов, зависело будущее республики. После второго тура декабрьских (1991) выборов Президента РМ программа действий опиралась на экономическую, а не политическую составляющую. Указ Президента МССР В. Д. Гуслянникова «О некоторых вопросах организации исполнительной власти в Мордовской ССР» от 18 августа 1992 г. предусматривал создание единой эффективной структуры исполнительной власти и приведение ее в соответствие с законодательством о местном самоуправлении [29].
Четкими действиями по построению эффективной системы управления в регионе, выработке линии по достижению политической стабильности и результативности работы социально-экономической сферы ознаменовался выход Н. И. Меркушкина на политическую арену в 1995 г. [8–9; 24; 40]. Матрица оптимального государственного регулирования рыночной экономики озвучивалась Главой РМ в ежегодных посланиях Госсобранию РМ. Стратегию преодоления кризисных явлений на протяжении 1990– 2000-х гг. руководство выстраивало исходя из последовательной реализации принципов федерализма и роли в межрегиональном, общероссийском и международном разделении труда. Важные программные документы принимались в формате интеграции государственных, общественных и частных интересов. Поэтому в 1993 г. при работе над Федеральной программой экономического и социального развития РМ на 1996–2000 гг. был учтен методологический принцип формирования проектов по конкретным видам конечной продукции [16, с. 182–190; 39, с. 110; 41]. Впоследствии все уровни территориальной иерархии перестраивались на рыночные условия позиционирования, формирование межрегиональных горизонтальных структур ассоциативного типа. Долгосрочное прогнозирование фокусировалось на преодоление отставания от среднероссийских показателей в удовлетворении потребностей и повышении качества жизни населения. Инструменты достижения цели базировались на интенсивном производстве, динамичном и устойчивом воспроизводстве, доступных природных, трудовых, техноло- гических и инвестиционных ресурсах, внутренних и внешних рынках товаров, труда и капитала. Прогноз развития частных процессов, выработка стратегии и тактики создания научного и научно-технического комплекса привели к разработке «Программы научно-технического прогресса Республики Мордовия на 1997–2000 гг.». Создание механизма формирования, конкурсного отбора и контрактного выполнения НИОКР основывалось на постулатах упрочения сотрудничества государственных структур с центром [1; 26; 34, с. 10–12]: отказ федерального центра от фронтальной поддержки приоритетных региональных научно-технических проектов, включение в программно-целевые механизмы НИОКР, выполняемых с участием средств федерального бюджета.
В общей сложности в рассматриваемый временной лаг страна вступила в фазу глубокой трансформации социальноэкономических и политико-идеологических структур с приобретением специфики транзитного общества. Введение рыночных элементов в экономическую систему в перестроечный период усугубило накопленные противоречия, а распад единого экономического и политического пространства и просчеты администрирования резко дестабилизировали народное хозяйство, обусловив кризис и инфляцию [43, с. 500–503]. Социалистическая идея координации экономических санкций из центра доказала свою теоретическую и практическую несостоятельность. Либеральные преобразования обернулись для промышленности Мордовии начавшимися процессами деиндустриализации и трансформацией региона из индустриального в индустриально-аграрный. Отдельные виды производств прекратили существовать, многие вступили в затяжной кризис и лишь единичные бизнес-формирования заняли определенные ниши в турбулентно-конкурентной среде. Усиление транзитного характера социума в начале 1990-х гг. в рамках коренной ломки управленческого механизма, ответственного за текущее и перспективное планирование, было свойственно для макро- и мезоуровня. Издержки реформирования приобрели некую устойчивость при воздействии на экономическую и политическую безопасность субъекта Федерации. Попыткам властей к середине 1990-х гг. адаптировать производственный блок к новым вызовам через его «закрытие» для внешних товаропроизводителей и свертывание хозяйственных отношений противостояло активное стремление продвинуть мордовскую продукцию на внешние рынки. Относительная стабилизация второй половины 1990-х гг. создала инвестиционный фон для выработки собственного имиджа.
Список литературы Экономический кризис в Мордовии на фоне «структуризации» социально-политического пространства и полицентризма политической власти в стране
- Адамеску А. А. Современная роль региональных программ/А. А. Адамеску//Регионология [Саранск]. -1995. -№ 3. -С. 120-133
- Афонин Н. Опасное равенство в «счастливом» расколе/Н. Афонин//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992.-29 авг
- Бахмуспюв С. Фундамент под дом национальный. Закон о языках/С. Бахмустов//Сов. Мордовия. -1992. -25 июля
- Ведомости Верховного Совета Республики Мордовия. -1994. -№ 2-3
- Деваев С. Защити, Закон! Верховный Совет МССР готовит законопроект о языках/С. Деваев//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -3 июля
- Декларация Общества русской культуры//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -15 мая
- Дневник сессии: графа оценок//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -16 июня
- Еремкин А. Н. Меркушкин: «Перспектива в повышении эффективности экономики»/А. Ерем-кин//Изв. Мордовии [Саранск]. -1995. -13 окт
- Еремкин А. Первая пресс-конференция первого Главы РМ/А. Еремкин//Изв. Мордовии [Саранск]. -1995. -27 сент
- Заключение постоянной комиссии ВС Мордовской ССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развитию самоуправления в связи с рассмотрением законопроекта о языках в Мордовской ССР [в сокр.]//Общественные движения в Мордовии. Документы. Материалы. -М., 1993. -С. 114
- Закон Мордовской Советской Социалистической Республики «О языках в Мордовской ССР». Проект//Общественные движения в Мордовии. Документы. Материалы. -М., 1993. -С. 109-114
- Заславская Т. II. О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии/Т. И. Заславская//Российское общество на социальном изломе: взгляд изнутри. -М., 1997
- Заявление Конституционного суда Российской Федерации//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -30 июня
- Калитина Н. ПроГРАММЫивремя/Н. Калитина//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -1 авг
- КалитинаН. О политической меже и бюджетном дележе. Заметки с сессии Верховного Совета МССР/Н. Калитина, А. Пыков, А. Столяров//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -6 июня
- Килъдюшкина II. Г. Республика Мордовия: история, экономика, проблемы: (Вторая половина 1980-х -середина 1990-х гг)/И. Г. Кильдюшкина. -Саранск, 2011
- Лукшин А. Противостояние (Попытка политического анализа)/А. Лукшин//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -6 июня
- Лукшин А. Синдром непогрешимости?/А. Лукшин//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -4 июня
- Лыткина Т. В. Каким ты был.../Т. В. Лыткина//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -2 июня
- Малышев А. Накорми нас, Агропром/А. Малышев//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -25 июня
- May В. В поисках планомерности/В. May. -М.: Наука, 1990
- May В. Реформы и догмы/В. May. -М.: Дело, 1993
- May В. Экономика и власть/В. May. -М.: Дело, 1986
- Меркушкин Н. II. Слагаемые нашего выбора/Н. И. Меркушкин//Регионология [Саранск]. -1995.'-№4. -С. 13-21
- Михайлов А. Поверим еще раз Гайдару?/А. Михайлов//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -4 июля
- О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 23 июня 1995 г//Регионология [Саранск]. -1995.-№3. -С. 114-119
- О дотациях на продукцию животноводства и птицеводства, реализуемую в госресурсы в июле-августе 1992 года: постановление Президиума ВС МССР от 17 июля 1992 г.//Сов. Мордовия. -1992. -25 июля
- О коренной перестройке управления экономикой: сб. док. -М.: Политиздат, 1987
- О некоторых вопросах организации исполнительной власти в Мордовской ССР: Указ Президента Мордовской ССР//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -21 авг
- О политической ситуации в республике в связи с антиконституционным государственным переворотом в СССР: постановление ВС МССР//Общественные движения в Мордовии. Документы. Материалы. -М., 1993. -С. 107-109
- О проекте Программы деятельности правительства Мордовской ССР на период стабилизации экономики: постановление ВС МССР от 5 июня 1992 г.//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -12 июня
- Пыков А. Политика хлеба и хлеб политики/А. Пыков//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -5 авг
- Пыков А. Форум на страже кворума/А. Пыков, Н. Калитина, А. Столяров//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -12 июня
- Региональное научно-техническое развитие и сотрудничество. -Саранск, 2000. -С. 10-12
- Савельев Б. О времени и о Президенте/Б. Савельев//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -7 мая
- Сангин В. У критической черты. Актуальное интервью/В. Сайгин//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -29 июля
- Скопцов В. Село живет надеждами.../В. Скопцов//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -30 июля
- Стачечная проба хлебороба. Протест//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -4 июня
- Сухарев А. II. Основы регионологии/А. И. Сухарев. -Саранск, 1996
- Тангалычев К. «Мордовия -не Америка, но Саранск порой вел себя как Вашингтон...»/К. Тангалычев//Мордовия. -1995. -4 мая
- Теоретические и методологические проблемы формирования федеральных программ социально-экономического развития регионов. -Саранск, 1995
- Фадеев Н. От цензуры до свободы/Н. Фадеев//Сов. Мордовия [Саранск]. -1992. -30 июня
- Экономика: учебник/под ред. А. И. Архипова, А. Н. Нестеренко, А. К. Большакова. -М.: Проспект, 1999. -С. 500-503
- Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России 1991-1997.-М., 1998
- Май V The Political History of Economic Reform in Russia/V. Mau. -London: CRCE, 1996. -P. 17-32
- Sutela P. Economic Thought and Economic Reform in the Soviet Union/P. Sutela. -Cambridge: Cambridge University Press, 1991