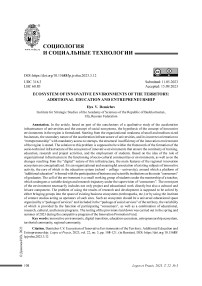Экосистема инновационных сред территории: дополнительное образование и предпринимательство
Автор: Демичев И.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании выводов качественного исследования акселерационной инфраструктуры вузов и концепции социальных экосистем формулируется гипотеза концепции инновационных сред региона. Отталкиваясь от организационной слабости малого и среднего бизнеса, вторичности акселерационной инфраструктуры вузов и ее некорректной ориентации на «предпринимательство» с обязательным выходом на стартапы, констатируется структурная недостаточность инновационной среды региона. Решение этой проблемы предполагается в рамках формирования социально-технической инфраструктуры экосистемы инновационных сред, обеспечивающих непрерывность подготовки, обучения, исследовательско-проектной деятельности и трудоустройства учащихся. Исходя из представления о роли организационной инфраструктуры в функционировании социокультурных сообществ или сред, а также из изменений, вытекающих из «цифрового» характера этой инфраструктуры, концептуализируются основные черты региональной инновационной экосистемы. Она представляет собой организационное и содержательное объединение существующих субъектов инновационной деятельности, ядром которого выступает система образования (школа - колледж - вуз), вокруг которых формируется площадка «дополнительного образования» с участием бизнеса и научных учреждений как основных «потребителей» выпускников. Ячейкой среды выступает малая рабочая группа учащихся под наставничеством педагога, которая проходит вариативную проектно-исследовательскую траекторию под кураторством «потребителей». Событийная часть среды обязательно включает в себя не только непосредственно проектную и образовательную работу, но и культурно-досуговую составляющую. Проблему использования результатов проводимых исследований и разработок предполагается решать за счет либо вывода групп в пространство существующих бизнес-экосистем (технопарков и т. п.), либо использования института венчурных студий, выступающих операторами такого рода площадок. Такая экосистема должна представлять собой универсальное образовательное пространство, организованное «пакетом услуг» и включенное в «пакет социальных услуг» территории, вариативность которого обеспечивается функцией участвующих «потребителей», а также сочетанием образовательной, исследовательской и культурно-досуговой программ. Апробация заложенных положений проводилась весной - летом 2023 г. в ходе конкурсной программы Фонда содействия инновациям.
Инновационные среды, цифровой переход, экосистема образования, экосистема предпринимательства, территориальное сообщество, региональное сообщество
Короткий адрес: https://sciup.org/149145050
IDR: 149145050 | УДК: 316.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.12
Текст научной статьи Экосистема инновационных сред территории: дополнительное образование и предпринимательство
DOI:
Citation. Demichev I.V. Ecosystem of Innovative Environments of the Territory: Additional Education and Entrepreneurship. Logos et Praxis, 2023, vol. 22, no. 3, pp. 108-121. (in Russian). DOI:
Актуальность исследования определяется тем, что в современной России сохраняется проблема взаимодействия между малым и средним бизнесом и научными и образовательными учреждениями, что не позволяет в полной мере выстроить на региональном уровне инновационные системы. Для решения практических проблем, в первую очередь необходимо выстроить аналитический инструментарий, систематизировав основные теоре- тические подходы к рассмотрению инновационных систем на региональном уровне.
Современный дискурс ориентирован на решение двух основных задач – сравнение отечественных и зарубежных подходов [Суханова 2015], а также рассмотрение различных вариантов «региональной инновационной системы» [Рогова 2017], как правило, основанных на концепции «тройной спирали» Г. Ицковица [Иц-ковиц 2011] и включенных в более общие процессы национального и глобального масштаба [Тарасова 2022]. Важно отметить, что ос- новные черты региональных инновационных систем определены региональным же опытом реализации Стратегии научно-технологического развития Российской федерации [О Стратегии... web]. Сосредотачиваясь на комплексе вопросов взаимодействия основных акторов – научно-образовательных центров, как носителей научно-технических компетенций и пула кадров, экономических субъектов, как источника инвестиций и носителя компетенций в области бизнеса, и государства, как источника инвестиций, общей направляющей рамки и гаранта правоотношений – они рассматривают механизмы трансляции разработок в бизнес-процессы или, наоборот, механизмы определения «заказа и заказчиков» со стороны бизнеса потенциальными разработчиками. Иными словами, в фокусе рассмотрения оказываются аспекты правоотношений субъектов по поводу их совместной работы над конкретными проектами. В этом ключе и формируются позиции сторон процесса, обуславливающие специфику его протекания [Заякина 2023]: если источником инноваций позиционируется бизнес, то научно-образовательные центры выступают, своего рода, аут-сорсными исполнителями отдельных направлений в проектах бизнеса (со снижением себестоимости разработок за счет мер институциональной поддержки – и компетенций исполнителей); если источником инноваций позиционируется научно-образовательный центр, то бизнес выступает инвестором – со всеми рисками венчурных инвестиций (отчасти компенсируемыми мерами институциональной поддержки) и, очевидным образом, скорее в ключе благотворительности, поскольку инновации подобного характера вынесены за рамки основного бизнес-процесса инвестора.
Важно отметить, что в этом случае, во-первых, инновационная активность для научно-образовательного центра остается внешним, не инкорпорированным в основной процесс образования, аспектом деятельности – это частная активность сотрудников или подразделений; во-вторых, для бизнеса такого рода инновации не выступают источником развития – ни в варианте работы под заказ (инновация рождается в самой среде бизнеса), ни в варианте венчурных инвестиций (реализованный проект, став патентом, уже на общих основаниях инкорпорируется в основной бизнес-процесс – со всеми издержками этого; нереализованные проекты без рефлексии перестают рассматриваться [Романова, Романов 2019]).
Не менее важно отметить, что подобная сосредоточенность на конкретике проектных разработок не позволяет обеспечить главного в инноватике – собственно культуры инновационной деятельности [Осипов, Гаври-люк 2020]. Потенциально инновационные проекты – вне зависимости от того, на базе какой структуры они реализуются – оптимизированы по нескольким ключевым критериям: проектной команде (что предполагает закрытость самой деятельности, ее исключение из основных процессов жизни участников и функционирования организации: это частная деятельность частных субъектов), количественным показателям (количество проектов для научно-образовательного центра или оператора институциональной поддержки; соотношение доходов и расходов инвестора; доход исполнителя), качественным показателям (технические задания и результаты проекта – для организаций, портфолио для исполнителей). Фактически единственным мотивом участия в инновационной деятельности для основных кадров выступает частный интерес: либо старт для карьеры, либо заработок от процесса – в лучшем (и редком) случае, склонность к реализации собственных разработок. Разумеется, эти мотивы необходимы и понятны, однако они обуславливают генеральную тенденцию «работы под заказ», угадывания интересов инвестора и формальное отношение к собственно творческой составляющей. Инновация – как принципиальное решение по повышению эффективности рабочего (организационного или технического) процесса или по формированию нового продукта (результата интеллектуальной деятельности) – очевидным образом не является приоритетом для участников разработки так же, как и для других субъектов.
Иными словами, проектная конкретика требует дополнения в виде рассмотрения фундаментального социокультурного фактора формирования среды, генерирующей инновационные решения и проекты, инфраструктурой которой и являются сами региональные инновационные системы [Курбатова, Каган, Вшивкова 2018]. Ориентация на инноватику в обоих смыслах (повышение эффективности и новые продукты) должна стать «нормой жизни и формой мышления», а значит, компонентом рутинного жизненного опыта и элементом самой системы образования – или быть, по крайней мере, связанной с ними [Бурдакова, Бянкин, Вахрушева 2017].
Стереотипы поведения и мышления формируются в ходе рутинного жизненного опыта людей. Чем выше структурные различия сообществ, в которых этот опыт реализуется – тем больше обособление сообществ и меньше взаимодействий между ними, и наоборот; тем больше различий в стереотипах поведения и мышления участников и меньше взаимопонимания друг с другом, и наоборот. В целом, на решение подобного рода противоречий направлен экосистемный подход , ставший концептуальным ядром данного исследования. Эмпирическая часть состоит из двух компонентов: серии интервью и фокус-групп, проведенных весной – летом 2022 г. (посвященных вопросам самоощущения бизнеса и оценки перспектив в условиях глобальных изменений), а также комплексным качественным анализом – включенным наблюдением, неформализованными интервью и консультациями с участниками процессов инновационной деятельности – университетом, формальными и неформальными объединениями в профильной области, креативными группами и проектными командами, партнерами из предпринимательского сообщества, взаимодействие которых складывалось вокруг конкурсных кампаний весны – лета 2023 г. Фонда содействия инноваций, Росмолодежи и Фонда поддержки культурных инициатив в области креативных индустрий. Конкретным предметом второй части наблюдений выступили креативные проекты в области игровой индустрии: видеоигры, живые, полевые и настольные игры, как форм досуговой, культурной и образовательной практики; событийная активность вокруг них; производственное и деловое их сопровождение. Исследование пересекается с рядом других направлений работы Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан и является их апробацией.
Опыт взаимодействия представителей бизнеса и научно-образовательного сообщества
На основании серии интервью (проведено 4 интервью с представителями университетов, 10 – с представителями МСП, 2 – с представителями операторов институциональных мер поддержки, 2 – со студентами; всего 18) и фокус-групп (проведено 2 фокус-группы с представителями МСП, 3 – со студентами, 2 – с представителями научно-образовательных центров, всего 7) с представителями регионального бизнес-сообщества и «предпринимательской инфраструктуры» вузов республики, проведенных Центром социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан весной – летом 2022 г. (выборка целенаправленная: участники, пользователи и функционеры акселерационных программ, пользователи институциональных мер поддержки, пользователи коммерческих коворкингов; метод отбора «снежный ком»). Результаты комплексного исследования легли в основу последующего исследования ключевых связей системы образования и бизнеса. Само исследование проводилось совместно с региональным отделением «Опоры России» и АНО «Центр стратегических разработок», представляло собой комплекс фокус-групп с представителями малого и среднего предпринимательства (резиденты коворкингов г. Уфы) и студентов двух вузов (Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет, ныне – объединенные в Уфимский университет науки и технологий; Уфимский государственный нефтяной технический университет), серию неформализованных интервью с функционерами акселераторов и проектных офисов вузов, а также включенное наблюдение за рабочими процессами в субъектах малого и среднего предпринимательства, студенческих проектных команд, университетской инфраструктуры и операторов мер институциональной поддержки (программы «Мой бизнес», «Россия – страна возможностей» и другие). Само исследование было посвящено вопросам самочувствия, оценки перспектив и мер государственной поддержки в условиях геополитических и геоэкономичес-ких изменений, однако в его ходе остро прозвучала тема отношения МСП с научными и образовательными учреждениями: одновременно с обеих сторон был озвучен, как интерес к сотрудничеству, так и возникающие при его формировании проблемы. Исходя из этого и появилась тема данной статьи.
Анализируя комплекс утверждений респондентов по затронутой тематике, обрисовалось несколько основных организационных и субъектных препятствий, не позволяющих сформировать – по крайней мере, в данных условиях – работающую акселерационную инфраструктуру вузов [Стажарова, Будрина 2022]. Основная мысль заключалась в том, что не работает институциональная связь между вузом и МСП региона, чему способствует одновременно несколько факторов.
Во-первых, малый и средний бизнес хотя и выступает основным потребителем кадров выпускников, в том числе и по специальности, оказывается слишком разрозненным и динамичным (типичные формулировки: «Как я могу знать, какие мне понадобятся специалисты через пять лет, если я могу закрыться или перепрофилироваться в следующем году?» и «Мне не нужны специалисты через пять лет – мне они нужны сейчас под конкретную работу», которые сопровождаются «Все равно приходится переучивать после учебы, потому что появились новые программы, требования и задачи»; стоит отметить, что это подтверждается практикой – бизнес одного из активных участников исследования был закрыт позднее и сейчас перепрофилирован с рекламы на организацию мероприятий для МСП региона). Там, где у вуза есть, своего рода, «головной заказчик» в виде крупного бизнеса или корпораций (нефть, газ, авиация и т. п.; специфическим примером был бизнес по производству ВР-контроллеров и программного обеспечения для ВР: «мы крайне заинтересованы в разработчиках контента, поскольку техническая база у нас есть, не хватает кадров достаточной квалификации – мы готовы предоставлять свою базу, брать на дополнительное обучение, даже выдавать заказы на аутсорс, но сомневаемся в квалификации, и сложно выстраивать отно- шения с вузами»), присутствуют относительно стабилизированные требования, предъявляемые к выпускникам, их адаптация к изменениям в отрасли, а также масштабные программы работы с учащимися – как в плане их подготовки (стажировки, подработки и т. п.), так и в плане привлечения их к исследовательской и инновационной тематике (которые реализуются преимущественно в виде заказных работ для подразделений вуза: «Это уже устоявшаяся практика, когда [корпорация] выдает кафедре заказ на разработку, а кафедра привлекает к работам наиболее толковых студентов», «Конечно, мои выпускники обращаются и с разработками, и с просьбой подобрать толковых студентов» – преподаватели вуза; они же особо подчеркивали именно неформальный, личный характер отношений в этом случае – это вопрос доверия партнеров, а не работа института). Малый и средний бизнес такую работу организовать и реализовать оказывается не в состоянии [Сагинова, Максимова 2017], хотя респонденты отметили, опять же, как стандартную практику совмещение работы в вузе и ведение собственного бизнеса («Преподаватели делятся на два типа: те, кто только преподают – и те, кто потолковей, уже имеют свой бизнес», «Конечно, если ты работаешь в крупном учреждении, у тебя возникают и связи, контакты, и идеи, которые можно реализовывать… Зачем их заводить в вуз? Это долго, муторно и ничего не дает – проще открыть свой бизнес»). С другой стороны, малый и средний бизнес, выказывая определенное стремление включиться в акселерационную и предпринимательскую активность вуза, сталкивается с рядом организационных и личных препятствий («Когда у тебя есть стабильный и прибыльный бизнес – появляется желание поделиться опытом» – респондент с оборотом около 1,5 млрд руб. в год; «Я несколько раз пытался наладить контакты с колледжем [в сфере искусств], мне нужны дизайнеры и я готов дать базу для их практикантов, научить работать в программами… но руководство на прямой контакт не пошло» – респондент из рекламного бизнеса; часто встречались высказывания о сложности взаимодействия с учебными учреждения- ми: «Мы разговариваем на разных языках» – представитель МСП, «Ну, они бизнесмены, у них все по-другому» – преподаватель вуза; отдельно стоит отметить ответы следующего характера: «Мы гуманитарии, как мы можем монетизировать свои знания – они не нужны бизнесу», преподаватели вуза, историк и политолог; они значимы, поскольку в ходе последующих мероприятий именно с гуманитариями, студентами и преподавателями разворачивалась проектная работа: стоит предположить, что преподавательский состав слабо ориентируется в области бизнеса и коммерциализации разработок).
Во-вторых, для самих вузов акселерационная инфраструктура оказывается в определенном смысле, вторичной – это затратные программы, которые, скорее, проходят по линии дополнительного образования и культурно-массового досуга учащихся, нежели по линии самостоятельной инфраструктуры вуза и источника внебюджетных средств для него («Это любимая игрушка ректора», «Деньги он не приносит, конечно», «Ну, студенты заняты, это уже хорошо. Однако ждать, что у них появится бизнес смешно»). Это проявляется в общем «волновом» характере работы такой инфраструктуры – если вуз на том или ином основании включается в акселерационную программу и пока в ее рамках осуществляется финансирование, либо пока сохраняется энтузиазм конкретных ответственных за нее лиц, инфраструктура действует, после чего закрывается («Пока есть деньги, акселератор работает – потом сколько-то держится на энтузиазме, потом закрывается» – функционер, который разворачивает на базе вуза программу «Капитаны бизнеса» с учетом прежнего опыта и в рамках сотрудничества с РАНХиГС). Участие в ней, конечно, так или иначе сказывается на оценке деятельности профессорско-преподавательского состава и учащихся, однако, скорее, в общем плане, а не в конкретно инновационной – научно-исследовательской, проектной или предпринимательской – области [Зобнина, Коротков, Рожков 2019] («Это, скорее, опыт, который позднее пригодится», «В лучшем случае, это связи, знакомства – и в этом ключе акселераторы полезны» – студенты вуза, участвующие в ак- селерационных программах; «В KPI это не вносится», «Доходит до смешного: наши студенты, которых мы учим, ездят на дорогих машинах, а мы получаем баллы и прибавку к зарплате в пару тысяч» – преподаватели вузов).
В-третьих, сама ориентация таких программ на «предпринимательство» оказывает определенный негативный эффект – как в отношении мотивации участников, учащихся и преподавателей, так и в отношении содержания мероприятий. По общему убеждению респондентов, «предпринимательству невозможно научить» (высказывания почти дословно прозвучали от функционеров акселерационных программ, преподавателей «школы предпринимательства» вуза, представителей МСП и «Опоры России»): это личностная характеристика, а не профессия – в силу чего предельная эффективность системы оказывается «один-два предпринимателя из тысячи участников, если повезет» (функционеры акселераторов, преподаватели «Школы предпринимательства», наставники от МСП в рамках акселераторов). Исходя из этой установки, содержанием акселерационных программ выступают мотивационные курсы (вызывающие определенное отторжение учащихся: «Пластмассовый мир коучинга», «Приглашают инфоцыган каких-то»), курсы по общим направлениям проектной деятельности и документообороту («Очень много про документы, а толку никакого», «Ну, дадут 100– 200 тысяч, на которые проект все равно не сделаешь, зато все нервы вымотают» – студенты, описывая, почему отказались от акселерационных программ или не стали рассматривать их в целом). Собственно, научнотехническая деятельность при этом, как правило, оказывается формальна или отсутствует, равно как и проектное взаимодействие с бизнесом [Дроздов, Чистяков 2020] («Что нам там предлагают? Социальная помощь старикам и инвалидам, студенческие СМИ – вот это вот все… Это не интересно» – студенты про оценку поддерживаемых проектов; «Нам просто повезло – мы случайно на акселераторе встретились с хорошим наставником, и он нас сориентировал» – учредители ВР-компании; «Чему могут научить эти [наставники], если у них самих нет опы- та предпринимательства, бизнеса?» – представитель МСП).
Очевидно, что исходя из рассмотренных фактов, не решаются ни «узкие», организационные и проектные, задачи инновационной инфраструктуры, ни «широкие» задачи формирования общей среды разработки и внедрения научно-технических инноваций. Существующая инфраструктура а) фрагментарна в организационном плане, б) не скоординирована по образовательным программам, в) не связана с «потребителями» прошедших через нее учащихся и г) слабо связана с интересами и потребностями самих учащихся и педагогов. В то же время присутствуют демонстрирующие хорошие показатели варианты ее организации – складывающиеся объединения «школа – колледж – вуз» [Дерина, Савва, Рабина web], «головные корпорации – вуз» [Авдеев, Троц 2020], а также « корпорация – технопарк» [Унгаева, Шабыкова 2021].
Экосистема инновационных сред территории
Опираясь на результаты исследования опыта взаимодействия представителей бизнеса и научно-образовательного сообщества, можно развернуть построенную на общих организационных принципах и пронизанную общей образовательной программой среду, которая в значительной степени расширяет возможности системы образования, оказывается адаптивнее в содержательном плане, а также позволяет развивать у учащихся возможности и навыки проектной, исследовательской, технической и предпринимательской деятельности. Такую среду, выступающую площадкой объединения образования, бизнеса и науки можно назвать экосистемой инновационных сред территории [Воронов 2022; Корчагина, Сычева-Передеро 2019]. Для решения указанных информантами задач, необходимо выстраивать работу в соответствии с концептуальным основанием экосистемы инновационных сред.
Экосистема социокультурных сред [Гри-цевич 2022] предполагает следующие основные компоненты:
– универсальные организационные принципы, связывающие между собой разнородные и разноуровневые субъекты среды и обеспечивающие их координацию и взаимодействие;
– единая площадка, в рамках которой реализуются эти принципы, градированная по уровням доступа – так, что переход к более высокому уровню обусловлен приемлемым результатом на предыдущем;
– единая «точка входа» для участников, обеспечивающая интеграцию их в единый процесс, на выходе которого универсальными принципами обеспечивается заданный результат – а все интеракции внутри экосистемы в определенной степени «автоматизированы»;
– «пакетный» характер предоставляемых услуг или, лучше, функциональных комплексов, которые обеспечивают качественное разнообразие субъектов, причем, в них выделяются универсальные, обеспечивающие основную средовую коммуникацию и стандарты отношений участников (например, досуговые практики), и профилированные, обеспечивающие конкретный качественный результат для участников (например, разные формы и направления практик);
– коммуникативная и событийная насыщенность, реализуемая в рамках функций среды, обеспечивающая вовлечение участников в реализуемые программы на постоянной основе, за счет чего достигается возможно большая погруженность их в процессы взаимодействия и интенсифицирует взаимный обмен информацией, непосредственно создавая общее пространство среды.
Необходимо отметить, что эти компоненты сами по себе не представляют особого новшества. Так, именно в этом ключе формировалась система универсального отечественного образования в советский период. Отличия здесь имеют иной характер: если советская система образования была индустриального типа и решала задачи на индустриальных же принципах, то сейчас меняются именно сами принципы организации общества в рамках цифрового перехода [Ветчи-нова 2022]. К существенным особенностям, кроме непосредственного насыщения социальных практик цифровым контекстом, стоит отнести «разукрупнение» организационных структур за счет внедрения цифровых и автоматизированных систем коммуникации и организации. Вкупе с большой численностью социальных групп и сравнительно высоким уровнем научно-технического образования (которое необходимо просто для того, чтобы оперировать в социокультурном пространстве цифровизированного общества), это предполагает рост количества вариативных мелких социальных субъектов. Эти субъекты вариативны по предлагаемому социальному (в том числе экономическому) продукту (товарам, услугам, контенту, практикам и т. п.), однако стандартизированы по, своего рода, протоколам социальной коммуникации, являющимся функцией от инфраструктуры цифровой среды. Как следствие, образуются две формально противоречащие друг другу тенденции: генерализации социальных и коммуникативных норм при фрагментации реальных социальных и коммуникативных практик, субъективизации их, как в плане непосредственного взаимодействия, так и в плане экзистенциальной значимости реализуемых в его ходе потребностей и интересов [Аликаева, Асланова, Шинахов 2020].
На данный момент активно складываются организационные структуры, технические компоненты и комплексы практик, соответствующие новому типу социальной организации, в том числе, в области предполагаемых к сочетанию сред – в бизнесе, образовании, науке. Они уже вошли в область рутинного поведения и стали определять среду жизнедеятельности как людей, так и их объединений, и по большому счету, стоит вопрос не столько создания новых форм организации, сколько согласования и доработки уже существующих [Лой-ко 2022]. На этом основана ключевая идея экосистемы инновационных сред.
На базе существующих организаций, учреждений и объединений дополнительного образования различного статуса, связав их общими организационными и программными принципами и объединив вокруг школ, колледжей и вузов, сформировать единую досугово-образовательную среду, одновременно выступающую: а) компонентом социальной инфраструктуры территории, б) общим пространством для населения, учреждений образования, науки и бизнеса, в) катализатором интеллектуального, гражданского, профессионального и предпринимательского развития молодежи.
Гипотеза дизайна экосистемы инновационных сред
Рассмотрим, какие перспективы заложены в гипотезе дизайна экосистемы инновационных сред [Акбердина, Василенко 2021; Сидоров 2017; Бурдакова, Бянкин, Вахрушева 2017]. Максимальное использование существующей инфраструктуры государственного, муниципального, некоммерческого и коммерческого характера не просто позволяет экономить на формировании среды – это позволяет привлечь активных субъектов основного процесса, их опыт и наработанные формы. Производя отбор сложившихся практик и налагая на них ключевые задачи формирования инновационной среды, происходит, по сути, лишь операция обвязывания их необходимыми организационными и программными принципами, придающими всей сфере новое и системное качество, а также гарантирующими базовый стандарт качества отношений и знаний, умений, навыков, прошедших через нее учащихся. Вокруг учебного заведения – школы, колледжа, вуза – формируется площадка, на которую «заводятся», с одной стороны, «поставщики услуг» по дополнительному образованию и досугу учащихся (в том числе коммерческого характера), с другой – образовательные учреждения более высокого уровня (соответственно, колледж, вуз), а с третьей – малый, средний и, возможно, крупный бизнес. Образовательное учреждение предоставляет педагогов и учащихся, добровольно включаемых в программу дополнительного образования. Поставщики образовательных и досуговых услуг непосредственно осуществляют программу образовательной и досуговой деятельности. «Потребители» выпускников (более высокое образовательное учреждение, бизнес) выступают заказчиками образовательных программ и кураторами их исполнения. Базовым элементом экосистемы выступает малая рабочая группа – педагог-наставник, ведущий группу учащихся по избранной траектории дополнительного образования от начала до выпуска, успехи и неудачи при этом влияют на его ведомственный и профессиональный статус, а также определяют доход (помимо основной заработной платы в учебном заведении); учащиеся, добровольно пришедшие в программу, образующие группу из 2–4 человек, совместно проходящие образовательную траекторию – от успехов и неудач чего зависит их образовательный уровень, опции по трудоустройству (в среде малого и среднего бизнеса, участвующего в процессе), дополнительному и базовому образованию, в том числе последующему (в учебных заведениях более высокого уровня, участвующих в процессе). Разработка программной части обязательно должна включать в себя: а) основную образовательную программу – бесплатную для участников и педагогов; б) дополнительную образовательную программу на бесплатной и платной основе, включающую в себя опциональные курсы, практики, стажировки и т. п., либо в дополнение базовой, либо для личных интересов учащегося; в) культурно-досуговую и воспитательную программу, бесплатную и платную для всех участников процесса – обеспечивающую неформальную, положительную и мотивирующую составляющую экосистемы; г) конкурсно-фестивальную программу, фиксирующую промежуточные и конечные итоги реализации программ рабочих групп, презентующих их результаты, освещаемые в региональной / федеральной повестке СМИ и выступающей формой контроля результатов, а также поощрения участников. Вариативность обеспечивается профилем учебного заведения, интересами учащихся и педагогов, заказами «потребителей» и комплексом поставщиков услуг, оперирующих на территории.
Важно отметить, что эта среда не находится в ведении непосредственно учебного заведения и не представляет собой дополнительную нагрузку на его штат, программы и возможности – хотя и обязательно должна быть с ними согласована [Петрова, Иванова, Казанцева 2021]. Более того, при запуске экосистемы и вовлечении в нее штатных педагогов для них должен быть проработан специальный курс не только переподготовки и повышения квалификации, но и мотивации.
Принципы экосистемы инновационных сред
На основании вышеизложенного можно сформулировать основные черты предполагаемой экосистемы регионального уровня.
-
1. Предлагаемая экосистема должна обеспечивать универсальное образовательное пространство , выстроенное на базе стандартных принципов и программ, с вариативной частью в виде специфики и интересов конкретных образовательных организаций, заказчиков и потребителей услуг дополнительного образования, креативности участников; она обеспечивает, с одной стороны системное объединение уже существующих организаций дополнительного образования, а с другой – условия для формирования новых.
-
2. Универсальность должна обеспечиваться «пакетным» характером базовых услуг , статусом участника экосистемы – учащегося, педагога, поставщика услуг, кураторов и т. п. – закрепленном на уровне основополагающих документов, учетом этого статуса при приеме на работу и в дальнейшем образовании, единых критериев оценки результатов работы экосистемы.
-
3. Универсальность предполагает инкорпорацию образовательной экосистемы в инфраструктуру социального обслуживания населения территории, как часть «социального пакета услуг» , которыми пользуются жители, организации, бизнес.
-
4. Вариативность экосистемы обеспечивается, с одной стороны, профилированием, расширением уровней предоставления образовательных услуг и иной спецификой образовательных программ; с другой стороны – интересами вовлеченных в экосистему субъектов (бизнеса, вузов, частных образовательных организаций, научных и общественных организаций, интересами региона и муниципалитета и т. п.); с третьей стороны – креативностью педагогических субъектов образовательных организаций, которая обязательно должна быть прописана, поощряться и включаться в меры поддержки и стимулирования педагогов образовательных учреждений.
-
5. Вариативность экосистемы, ее универсальный средовой характер, вовлеченность в нее контрагентов и опциональность предоставляемых услуг обуславливают индивидуализацию образовательных траекторий учащихся , которые, с одной стороны, оказываются в системе, раскрывающей возможные варианты развития личности, гражданина, специалиста, с другой – развивающей навыки
-
6. Базовым элементом экосистемы предлагается сделать малые рабочие группы учащихся под наставничеством школьных учителей и преподавателей, которые «ведут» группу по выбранной траектории – в силу чего а) в их обязанности вменяется обеспечение результатов учащихся, сохранение группы, ее морального настроя и интеллектуального развития, б) педагог из «поставщика услуг» превращается в полноценного наставника , обеспечивая важнейшую функцию развития личности учащихся, специалистов и граждан, а потому в) это должно выступать не только основанием для внутриведомственной оценки и поощрения, но также – основанием для высокого уровня заработной платы .
-
7. Программная часть экосистемы на каждом этапе должна быть сопряжена с потребностями последующего этапа (например, школьники готовятся поступать в колледж или вуз, или выходить на работу), образовательным процессом данного этапа, а также обязательно включать в себя три основных компонента: собственно образовательная составляющая , развивающая знания, умения и навыки учащихся; культурно-досуговая и воспитательная составляющая , ориентирующая на атмосферу командной и коллективной творческой работы, наработку социального капитала в горизонтальном (рабочие группы) и вертикальном (контрагенты) отношении; конкурсно-презентационная составляющая , направленная на взаимное представление и раскрытие результатов работы, оценку достижений и поощрение за них.
-
8. Структурная часть экосистемы должна обеспечивать организационное единство и взаимодействие основных групп субъектов в процессе разработки, тестировании и доведения до внедрения инноваций на уровне инфраструктуры. Учитывая опыт технопарков, центров коллективного пользования и бизнес-акселераторов / инкубаторов, логично ее рассматривать, как последовательную связку коворкингов, центров отработки технологических решений (прототипирования, коллек-
- тивного пользования оборудования и т. п.), выводящих в качестве последнего звена в технопарки или их аналоги, пулы бизнес-аген-тов, которые участвуют в экосистеме. Учитывая определенную бессмысленность воз-лагания вопросов коммерческого внедрения и использования результатов исследований и технологических разработок на участников – не только образовательные или научные учреждения, но и частный бизнес, логично рассмотреть вариант оператора экосистемы по образу венчурной студии, которая обеспечивает бизнес-составляющую рабочего процесса.
-
9. Финансирование экосистемы предполагается из трех основных источников: государственных средств, выделяемых на систему образования; государственных и негосударственных средств, выделяемых на различные приоритетные проекты, социальные программы, работу с молодежью и т. п.; частные средства бизнеса, образовательных учреждений и населения.
командной проектной работы над различными задачами, с третьей – «провешивающей» различные варианты личного развития и становления, обеспечивая их связность и эффективность.
В рамках данного дизайна, помимо основного вопроса конкретной проработки организационных решений, методологии и методических указаний, очевидно, необходимо решение еще нескольких вопросов:
-
– «держатель площадки». Здесь возможны три варианта: а) учебное заведение, в рамках его дополнительного образования и услуг, внебюджетной деятельности; б) кванториумы и аналогичная инфраструктура, как уже существующая площадка; в) некоторый новый субъект, который можно сразу спроектировать под заданные параметры;
-
– «персонализация под потребности». Необходимо в возможно большей степени подводить образовательные и культурные программы под потребности участников – как «заказчиков» и учебных заведений, так и учащихся и их семей, для чего необходим постоянный мониторинг и оценка их удовлетворенности, потребностей и склонностей;
– «структура и нормативная база». Необходимо выявить и разрешить уже существующие и возникающие при реализации проекта структурные и нормативные противоречия между учебными заведениями (например, доступ на их территорию сторонних лиц и организаций), поставщиками услуг (статус, усло-
- вия, типовые договора и т. п.), бизнесом и вузами, вносить изменения в статус педагогических работников, в критерии оценки абитуриентов и т. п., для чего также необходимо проектное исследование.
Основные выводы: апробация экосистемы инновационной среды
На базе сформулированных принципов, хотя и в значительно меньшем масштабе, на данный момент реализуется комплексный исследовательский и практический проект Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований АН РБ «Игропрак-тики ЦСКА». В рамках реализации конкурсной программы 2023 г. «Студенческий стартап» Фонда поддержки инноваций по направлению «Креативные индустрии» взяты под наблюдение и сопровождение ряд проектов настольных и видеоигр с широким привлечением а) бизнес-партнеров в области организации досуговых практик и креативных индустрий, б) формальных и неформальных объединений в области креативного и интерактивного (игрового, событийного) досуга и в) общественных и научных организаций региона и России в целом. Сами эти проекты одновременно связаны в общую концептуальную рамку по своему содержанию и представляют собой раскрытие в интерактивной и кросс-платформенной форме комплекса культурных положений (российская культура – фольклор, научная фантастика, транслируемые в качестве сеттинга). Это не только позволяет проектным командам и привлекаемым специалистам синергетически взаимодействовать по содержанию самих игровых проектов, сокращая время включения в рабочий процесс, но и стимулирует креативность в плане проектных решений, вариантов развития проекта и формирования новых вариантов игровых продуктов на его основе. В дополнение реализуется система мер публичного сопровождения – инкорпорация проектных команд и самих игровых проектов в событийную (в том числе рутинную) повестку города, от внутренних мероприятий досуговых групп и обычных практик бизнес-партнеров (в частности, игротек, тайм-кафе с игровыми зонами и т. п.) до крупных культурно-массовых мероприятий
(в частности, фестивали). Это позволяет, с одной стороны, обеспечить апробацию и позиционирование разрабатываемых продуктов, а с другой – обусловливает насыщение отношений участников проектных команд и их внешних связей с партнерами (в том числе в виде привлечения специалистов в проектную работу). Наконец, формируется структура организационно-технического сопровождения проектов за счет привлечения партнеров и операторов институциональных мер поддержки, которая снижает риски срыва проектных работ по причинам некорректной организации биз-нес-процесса, юридических и иных подобного рода проблем. Событийная повестка при этом построена в расчете на календарь публичных, деловых и образовательных мероприятий, разбита на три основные части: осенняя кампания, в рамках которой формируются креативные идеи и пул их исполнителей; весенняя кампания, в рамках которой формируются проекты под конкурсную программу Фонда содействия инноваций и проектные команды, летняя кампания, в рамках которой производится окончательное формирование рабочих групп и выстраивается рабочий процесс разработки.
Таким образом складывается в организационном плане инкубатор креативных проектов, вовлекающий в рабочий процесс, с одной стороны, креативные (и прежде всего, студенческие, но далеко не только – примерно половина из наблюдаемых проектов сгенерирована не студентами) группы, а с другой – заинтересованные контрагенты из бизнеса, общественных объединений и иных групп. В содержательном плане формируется универсальная среда по генерации, выработке и разработке креативных проектов (причем, не только непосредственно игровых: по мере решения прикладных задач по формированию демонстрационных версия игр складываются проектные решения организационного и технического характера), сопряженная с культурно-досуговой практикой города (студентов городских вузов, игровых сообществ, партнеров) и процессами образовательных и культурных учреждений (вузов, старшей школы; в перспективе – сети библиотек, домов творчества и т. п.). На данном этапе производится отладка механизмов взаимодействия между субъектами процесса.
Список литературы Экосистема инновационных сред территории: дополнительное образование и предпринимательство
- Авдеев, Троц 2020 – Авдеев Е.В., Троц Д.А. Школа – вуз – госкорпорация как единое образовательное пространство // Вестник науки. 2020. № 5 (26). С. 9–15.
- Акбердина, Василенко 2021 – Акбердина В.В., Василенко Е.В. Инновационная экосистема: теоретический обзор предметной области // Журнал экономической теории. 2021. № 3. С. 462–473
- Аликаева, Асланова, Шинахов 2020 – Аликаева М.В., Асланова Л.О., Шинахов А.А. Теории социально-экономических экосистем: закономерности и тенденции развития // Вестник ВГУИТ. 2020. № 3 (85). С. 284–288.
- Бурдакова., Бянкин, Вахрушева, 2017 – Бурдакова Г.И., Бянкин А.С., Вахрушева В.О. Развитие технологического предпринимательства в регионе на основе модели «Тройной спирали» // р-Economy. 2017. № 6. С. 172–181.
- Ветчинова 2022 – Ветчинова М.Н. Формирование новой образовательной реальности: экосистемный подход // Проблемы современного образования. 2022. № 4. С. 78–86.
- Воронов 2022 – Воронов А.С. Направления трансформации региональной инновационной системы территорий // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. № 92. С. 101–115.
- Грицевич 2022 – Грицевич С.А. Методологические основы формирования экосистемного подхода: теоретический анализ // ЭСГИ. 2022. № 1 (33). С. 39–49.
- Дерина, Савва, Рабина web – Дерина Н.В., Савва Л.И., Рабина Е.И. Университетская экосистема как экологический вектор высшего образования [Мир науки. Педагогика и психология. 2020. № 3] // https://mir-nauki.com/PDF/10PDMN320.pdf
- Дроздов, Чистяков 2020 – Дроздов И.Н., Чистяков Е.Д. Значение внутриуниверситетской обратной связи в развитии студенческого предпринимательства // КЭ. 2020. № 5. С. 925–942.
- Заякина, 2023 – Заякина Р.А. Положение университета в инфраструктуре, поддерживающей технологическое предпринимательство // Высшее образование в России. 2023. № 4. С. 65–82.
- Зобнина, Коротков, Рожков 2019 – Зобнина М., Коротков А., Рожков А. Структура, вызовы и возможности развития предпринимательского образования в российских университетах // Форсайт. 2019. № 4. С. 69–81.
- Ицковиц, 2011 – Ицковиц Г. Модель тройной спирали // Инновации. 2011. № 4. С. 5–10.
- Корчагина, Сычева-Передеро 2019 – Корчагина И.В., Сычева-Передеро О.В. Эффективность формирования инновационной экосистемы как элемента стратегического развития территории // Управление. 2019. № 4. С. 44–53.
- Курбатова, Каган, Вшивкова, 2018 – Курбатова М.В., Каган Е.С., Вшивкова А.А. Региональное развитие: проблемы формирования и реализации научно-технического потенциала // Пространство экономики. 2018. № 1. С. 101–117.
- Лойко 2022 – Лойко А.И. Социальные цифровые экосистемы: тренды эволюции // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. № 17-1. С. 180–182.
- О Стратегии... web – О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 // http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
- Осипов, Гаврилюк 2020 – Осипов Е.М., Гаврилюк А.В. Культура инновационной деятельности как фактор социально-экономического развития общества // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 12. С. 26–31.
- Петрова, Иванова, Казанцева 2021 – Петрова Т.В., Иванова Е.В., Казанцева Г.Г. Роль программ дополнительного профессионального образования в формировании образовательной экосистемы // Вестник СибГИУ. 2021. № 4 (38). С. 43–49.
- Рогова, 2017 – Рогова Т.Н. Создание и развитие региональной инновационной системы // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. № 10 (355). С. 1927–1943.
- Романова, Романов, 2019 – Романова А.А., Романов П.А. Венчурное финансирование инновационных стартапов // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2019. № 2-2. С. 843–845.
- Сагинова, Максимова 2017 – Сагинова О.В., Максимова С.М. Опыт взаимодействия вузов и предпринимательских структур // Российское предпринимательство. 2017. № 3. С. 377–387.
- Сидоров 2017 – Сидоров Д.В. Новая модель инновационной экосистемы // Инновации. 2017. № 8 (226). С. 61–66.
- Стажарова, Будрина 2022 – Стажарова Д.М., Будрина Е.В. Динамика развития студенческих стартапов на базе инновационной инфраструктуры вуза // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2022. № 3. С. 3–12
- Суханова, 2015 – Суханова П.А. Модель региональной инновационной системы: отечественные и зарубежные подходы к изучению региональных инновационных систем // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2015. № 4 (27). С. 92–102.
- Тарасова, 2022 – Тарасова А.Н. К вопросу об эволюции предпринимательского университета: институциональный подход // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2022. № 1 (29). С. 106–118.
- Унгаева, Шабыкова 2021 – Унгаева И.Ю., Шабыкова Н.Э. Формирование региональной промышленной инфраструктуры как фактор развития производственного предпринимательства // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. 2021. № 2. С. 83–89.