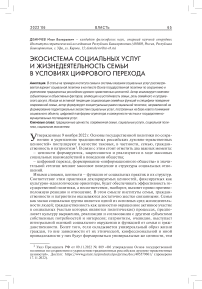Экосистема социальных услуг и жизнедеятельность семьи в условиях цифрового перехода
Автор: Демичев Илья Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере института семьи и системы оказания социальных услуг рассматривается вариант социальной политики в контексте Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Автор анализирует комплекс субъективных и объективных факторов, влияющих на устойчивость семьи, роль семейного и супружеского досуга. Исходя из активной тенденции социализации семейных функций и специфики поведения современной семьи, автор формулирует концептуальные рамки социальной политики, направленной на формирование территориальных экосистем социальных услуг, построенных на базе нового понимания социального объекта, цифровой платформы-агрегатора и совокупности частных и государственно-муниципальных поставщиков услуг.
Традиционные ценности, современная семья, социальные услуги, социальная политика, социальная экосистема
Короткий адрес: https://sciup.org/170195972
IDR: 170195972 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9346
Текст научной статьи Экосистема социальных услуг и жизнедеятельность семьи в условиях цифрового перехода
У твержденные 9 ноября 2022 г. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» постулируют в качестве таковых, в частности, семью, гражданственность и патриотизм1. В связи с этим стоит отметить два важных момента:
– ценности формируются, закрепляются и реализуются в ходе массовых социальных взаимодействий в поведении общества;
– цифровой переход, формирование «информационного общества» в значительной степени меняют массовое поведение и структуры социальных отношений.
Иными словами, ценности – функция от социальных практик и их структур. Соответствие этим практикам декларируемых ценностей, фиксируемых как культурно-идеологические ориентиры, будет обеспечивать эффективность государственной политики, а несоответствие, наоборот, вызовет прямо противоположную реакцию и отношение. В этом смысле институты семьи, гражданственности и патриотизм оказываются достаточно жестко связанными. Семья как малая социальная группа является одной из основных сред жизнедеятельности людей; гражданственность как ценностно окрашенное активное участие в социальных (частью которых являются политические) процессах, предполагает культуру выражения, реализации и согласования с другими субъектами собственных потребностей и интересов; патриотизм, очевидно, выступает интегральной оценкой социального окружения и функцией от семьи и гражданственности. Более того, если складывается универсальный образ жизни граждан, то вне зависимости от их этнической, конфессиональной и иной принадлежности у них будут формироваться универсальные же ценности, тем более значимые, чем более полно обеспечены их потребности и более плотно они вовлечены в процессы на его основе.
Соответственно, социальная политика государства в таком контексте должна быть нацелена на формирование таких отношений, которые способствуют декларируемым ценностям, причем в контексте реальных складывающихся практик граждан, предполагая их активное вовлечение в ее реализацию при достаточно выраженной роли государства. Рассмотрим вариант такой социальной политики в отношении семьи и ее социального окружения.
Основанием для образования семьи выступает наличие комплекса субъективных оценок, укладывающихся в формулу: «гармоничный союз любящих друг друга людей» безотносительно к объективным факторам [Лактюхина, Антонов 2016]. Формально это как раз и отражает ценностный характер семьи – она складывается по ценностным основаниям. Однако это фактически означает, что ее существование определяется взаимными субъективным оценками супругов. Если они по тем или иным причинам оказываются рассогласованными, семья распадается, о чем и свидетельствует статистика. Конечно, причина их рассогласования, по крайней мере, выражается в рассогласованности семейных практик: несправедливость разделения обязанностей в семье, дисбаланс удовлетворения потребностей супругов, рассогласование норм поведения супругов и т.п. [Чумаченко 2016] и в целом сопряжена с комплексом противоречий (противопоставление семьи и личных ценностей, самореализации и карьеры; собственных ценностных установок супругов по отношению друг к другу).
Можно выделить три типа значимых для семьи отношений: а) связанные с работой и досугом супругов за пределами семьи; б) связанные с семейными обязанностями (домашнее хозяйство, уход за детьми и т.п., связанные с ролями «отец» и «мать»); в) связанные с непосредственными отношениями супругов (совместный досуг) [Караханова, Большакова 2018]. Логично оценить их значимость через выделяемый бюджет времени [Короленко 2021], отметив общую зависимость: чем больше времени члены семьи проводят за ее пределами (работа, индивидуальный досуг), тем меньше остается времени на реализацию семейных отношений; чем больше времени тратится на семейные обязанности, тем меньше его на супружеский досуг, а именно последний определяет, в конечном счете, интегральные положительные оценки супругами своей семьи и друг друга. Затраты времени на отношения могут быть скомпенсированы затратами материальных и моральных ресурсов (и наоборот), однако, во-первых, не в полной мере, а во-вторых, расширение материальных ресурсов семьи при прочих равных условиях связано с увеличением доли работы; использование моральных ресурсов при прочих равных условиях снижает интегральную оценку семьи и семейных отношений. В этом ключе необходимо подчеркнуть принципиальную важность досуга членов семьи и семьи в целом: именно он непосредственно воспроизводит моральный ресурс, а значит, чем меньше досуга, тем меньше морального ресурса, чем меньше семейного досуга, тем меньше морального ресурса связано с семьей [Иванова, Горбачева 2019].
Перераспределение ресурсов на структуры отношений и ситуации решается за счет социальной инфраструктуры [Ивашкина 2016] – совокупности организаций различного характера, предоставляющих услуги выполнения функций семьи – от хозяйственных до функций воспитания и организации досуга. Логика их работы понятна: чем больше функций передано социальным организациям, тем меньше затраты собственно членов семьи, благодаря чему ока- зывается возможным поддерживать хотя бы часть структуры семейных отношений [Сизова, Коренькова 2020]. Такой подход подкрепляется соображениями профессионального исполнения функций специалистами и соблюдением регламентов оказания услуг, что значительно повышает качество последних. Однако это порождает другую проблему: чем больше функций семьи социализировано, тем меньше функциональное наполнение семьи и тем слабее семейные отношения, поскольку снижается взаимная потребность супругов друг в друге. Исходя из этого, помимо расширения социальной инфраструктуры, необходима определенная ее переориентация: это не только сокращение издержек семьи, но среда, построенная вокруг ценностей семьи и обеспечивающая их, в частности, формирующая социокультурное пространство для совместного супружеского досуга. Наконец, еще одним условием выступает не увеличение временных и материальных затрат семьи на использование социальной инфраструктуры [Леонидова 2019]: например, если стоимость и время на сопровождение ребенка в учреждение дополнительного образования будут выше, чем совокупные издержки семьи при домашнем образовании, очевидно, смысла использовать этот элемент инфраструктуры не будет.
Целесообразно в этом отношении продолжить и развивать уже существующие практики, представляемые, например, связкой «портал госуслуг и сеть МФЦ» [Круг, Федюкова, Карецкая 2022], существенным образом не только экономящие время граждан, но и снимающие с них нагрузку, связанную с документооборотом. Еще одним ключевым элементом может выступать такой инструмент, как «социальная карта», а точнее, складывающаяся инфраструктура (транспорт, услуги частные, образовательные, государственные и муниципальные, скидки, льготы и т.п.), точкой доступа к которой выступает карта [Димиржиева 2018]. Наконец, третьим элементом в данном случае должен стать принцип шаговой доступности социальной инфраструктуры, который на практике реализован (в большей или меньшей степени) практически для всех базовых услуг (образование, медицинское обслуживание, сеть молодежных и подростковых муниципальных клубов и т.п.), но в меньшей степени – для услуг вариативных. Последнее также представляет собой понятный эффект финансовых ограничений и общей ситуации неопределенности, когда потенциальные пользователи не знают не только о поставщиках услуг, но и о самой возможности их получения, а поставщики по разным причинам не могут корректно оценить число пользователей и их потребности, в то время как затраты на создание и поддержание функционирующего объекта оказываются достаточно существенными. Хорошим подспорьем здесь выступает институт социального предпринимательства и гранты на различные социальные НКО [Иванова, Бородкина 2020].
И наконец, субъективно значимые для жителей потребности и интересы, неопределенные и ситуативные условия их возникновения и малые группы их носителей, а также обозначенная выше стратегия, направленная на создание среды, обеспечивающей ценностно значимые супружеские отношения, заставляют по-новому рассмотреть подход к социальному обслуживанию населения территории, а также сам концепт социального объекта и интерфейса отношений между поставщиками и потребителями услуг. Во-первых, отмеченные выше примеры портала госуслуг, МФЦ и социальных карт уже представляют собой организационную основу для широко представленной в частном бизнесе практики предоставления пакета услуг, т.е. организации доступа к комплексу услуг поставщика (не обязательно данного, но и его партнеров). Территория для своих жителей гарантированно предоставляет определенный спектр базовых и специальных услуг, а также дает возможность удовлетворения потребностей по заявке на некоторых условиях. Специальные и вариативные услуги как раз и обеспечиваются частными коммерческими и некоммерческими поставщиками.
Во-вторых, шаговая доступность, вариативность субъективно значимых потребностей и интересов диктует формулу социального объекта или объекта социальной инфраструктуры как пространства для оказания услуг, которое подстраивается под конкретные запросы, мероприятия и т.п. Это в значительной степени также реализовано не только в частном бизнесе (например, торгово-развлекательные комплексы), но и отчасти в муниципальных организациях (детские сады, школы и сеть муниципальных клубов как площадки для оказания дополнительных образовательных, развлекательных и досуговых услуг). В этом смысле необходимо отрефлексировать складывающиеся практики и стандартизировать их, тем более, что как раз образовательная инфраструктура, и прежде всего школы, в действительности обладают всеми необходимыми качествами (фокус территории, интерес зрелых семей с детьми, интерес детей и молодежи, шаговая доступность, готовые площадки и т.д.).
В-третьих, снятие неопределенности отношений между поставщиками и потребителями услуг (как в виде маркетинга и заявок на услуги, так и в смысле обязательной обратной связи), вариативность потребностей и малочисленность их носителей, а также необходимость продвижения пакета услуг, эксклюзивных предложений и т.п. вкупе с уже сложившимися практиками использования цифровых коммуникаций и предложений предполагает необходимость создания цифрового агрегатора, соединяющего между собой социальные объекты как площадки предоставления услуг, социальные организации как поставщиков услуг и жителей как потребителей и заказчиков услуг (в т.ч. путем самоорганизации, т.е. возможность самостоятельно организовывать события, мероприятия и предоставлять услуги). Опять же организационные основы, цифровые решения и практики для этого уже есть, и необходимо, по сути, их развить.
В-четвертых, за счет агрегатора и организованной на его площадке коммуникативного пространства территории резко повышается информационная связность сообщества. В самом деле, обработка данных агрегатора – число пользователей, события, визуализация, запросы и т.п., – информация с высокой степенью детализации и актуальности формируют социокультурный портрет жителей, определяют спектр их проблем, интересов и т.д. В этой среде повышается эффективность событийного управления и управления социальными процессами, поскольку повышается охват, адресность и вовлеченность пользователей. Последнее, в свою очередь, позволяет также вести собственно осмысленную семейную и социальную политику – от пропаганды соответствующих ценностей до рекламы поставщиков услуг и формирования событийной повестки.
В заключение необходимо отметить, что стоит концептуально пересмотреть не только конкретные структуры социального (государственного, муниципального и частного) обслуживания населения, но и саму цель социальной политики на территории. Необходимо переориентировать ее с поддержки уязвимых групп населения, осуществляемой государственно-муниципальными органами и связанными с ними АНО-НКО, на создание среды, которая поддерживает и обеспечивает основную активную часть населения – семьи с детьми. При этом поддержка такого рода не только должна давать значимый социальный эффект за счет повышения привлекательности и комфорта жизнедеятельности этой части населения на данной территории (снижение склонности к отъезду с территории и повышение склонности к переезду на нее); это скорее следствие. Главное, что такой подход одновременно создает широкую нишу для развития социального предпринимательства и частных услуг, стимулирует активность и солидарность самих жителей, ценность места жительства в их глазах (чем больше ценностно значимых потребностей удовлетворено здесь, тем выше ценность места и выше вовлеченность в отношения и процессы сообщества), а также стимулирует общую креативность жителей (событийная повестка, обеспечение вариативных интересов, стимулирование собственной социальной самореализации) [Попов, Кац, Веретенникова 2016].
Инструментом такой социальной политики как раз и выступает предлагаемая социальная экосистема территории, организационной основой которой выступает объединение государственных, муниципальных и частных поставщиков услуг, размещенное на площадках социальных объектов, ядром потребительской ценности – предлагаемый пакет услуг и его вариативность, а пользовательской оболочкой, интерфейсом – цифровая площадка и сервисы. Необходимо подчеркнуть, что такая экосистема, помимо решения чисто социальных задач, сама по себе дает целый спектр эффектов – от повышения привлекательности территории до стимулирования деловой и гражданской активности. Частным, но от этого не менее значимым следствием здесь выступает универсализация образа жизни территории, в который интегрируются жители вне зависимости от их этнической, конфессиональной и иной принадлежности, причем находя обеспечение, выражение и удовлетворение своих специфических потребностей.
Статья публикуется при поддержке Школы молодого этнополитолога (грант Фонда президентских грантов 22-2-003352).
Список литературы Экосистема социальных услуг и жизнедеятельность семьи в условиях цифрового перехода
- Димиржиева Г.В. 2018. Социальная карта как финансово-социальный инструмент повышения эффективности и адресности предоставления мер социальной поддержки. — Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. № 3(55). С. 1-8.
- Иванова М.М., Бородкина О.И. 2020. Развитие экосистемы социального предпринимательства в Северо-Западном регионе России. - Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. Вып. 4. С. 622-636.
- Иванова Т.Н., Горбачева Н.Б. 2019. Современная семья о культурно-досуго-вой среде города. - АНИ: педагогика и психология. Т. 8. № 1(26). С. 133-136.
- Ивашкина Ю.Ю. 2016. Структура и субъекты системы социального обслуживания семей с детьми. - Проблемы развития территории. Вып. 3(83). С. 100118.
- Караханова Т.М., Большакова О.А. 2018. Бытовая деятельность в домохозяйстве: необходимый и востребованный неоплачиваемый труд городских рабочих. - Вестник Института социологии. Т. 9. № 2. С. 100-129.
- Короленко А.В. 2021. Временной ресурс современной семьи: опыт изучения на примере Вологодской области. - Экономика. Социология. Право. № 4(24). С. 107-118.
- Круг Э.А., Федюкова Н.В., Карецкая О.А. 2022. Оценка качества государственных услуг в условиях цифровизации (на примере портала государственных услуг). - МНИЖ. № 6-5(120). С. 130-132.
- Лактюхина Е.Г., Антонов Г.В. 2016. Причины развода в современной России. -Народонаселение. № 4. С. 57-67.
- Леонидова Е.Г. 2019. Проблемы формирования и использования доходов населения: региональный аспект. - Научный вестник ЮИМ. № 2. С. 68-71.
- Попов Е.В., Кац И.С., Веретенникова А.Ю. 2016. Доступность социальной инфраструктуры городских территорий. - Региональная экономика: теория и практика. № 2(425). С. 54-67.
- Сизова И.Л., Коренькова М.М. 2020. Новые потребительские практики современных городских семей в сфере ухода за детьми и их развития. - Вестник Института социологии. Т. 11. № 2. С. 174-193.
- Чумаченко Л.А. 2016. Факторы, влияющие на конфликтные отношения в молодых семьях. - Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. № 54. С. 31-37.