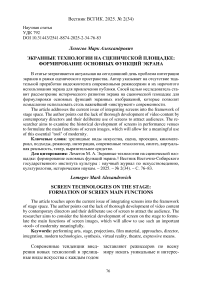Экранные технологии на сценической площадке: формирование основных функций экрана
Автор: Лемегов М.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается актуальная на сегодняшний день проблема интеграции экранов в рамки сценического пространства. Автор указывает на отсутствие тщательной проработки видеоконтента современными режиссерами и их нарочитого использования экрана для привлечения публики. Своей целью исследователь ставит рассмотрение исторического развития экрана на сценической площадке для формулировки основных функций экранных изображений, которые позволят осмысленно использовать столь важнейший «инструмент» современности.
Зрелищные виды искусства, сцена, проекции, киноматериал, подходы, режиссер, интеграция, современные технологии, синтез, виртуальная реальность, театр, выразительное средство
Короткий адрес: https://sciup.org/170209460
IDR: 170209460 | УДК: 792 | DOI: 10.31443/2541-8874-2025-2-34-76-83
Текст научной статьи Экранные технологии на сценической площадке: формирование основных функций экрана
Современные тенденции внед- заставляют режиссеров по всему рения новых технологий в зрелищ- миру искать уникальные и интересные виды искусства с каждым годом ные способы реализации своих замыслов. Все чаще мы можем видеть в художественной практике внедрение светодиодных и проекционных экранов с целью достижения злободневности и актуальности. Так как современный зритель непрерывно находится в окружении «окон» в виртуальную реальность (рекламные баннеры, интерактивные экраны, компьютеры, смартфоны и прочие устройства), его восприятие действительности непрерывно делится на множество сегментов, из-за чего возрастает потребность в повсеместном поглощении цифровой информации. Именно поэтому наличие экрана на сценической площадке является отличительным знаком и показателем современности. Однако многие режиссеры в XXI в. все еще используют его как фоновое изображение, полностью игнорируя весь потенциал устройства как транслятора смыслов. Экран давно перестал быть обыкновенным аттракционом и его внедрение в пространство сцены должно быть тщательно продумано. Режиссеру необходимо четко представлять, какая задача стоит у изображения в той или иной сцене и какие цели он преследует. Вопрос о функциональности экранов не теряет актуальность с начала XX в., ведь уже тогда театральные деятели стремились приспособить новейшее устройство братьев Люмьер на сценическую площадку и выявить его художественные особенности.
Так, в журналах 1908 г. мы можем прочесть упоминание первых опытов применения проекций на сцене. Зритель мог наблюдать на экране героев и события пьесы во время антракта или же погрузиться в «увеличенную иллюзию сказки», наблюдая за одновременным появлением действующих лиц в двух пространствах [5–6]. Более экспериментальным применением технологии в то время стала демонстрация интимных поз в фарсе московской труппы Сабурова «999 рогонос-цевъ». Как пишет источник, экран как бы «договаривает» за внесцени-ческими событиями [4]. Активное использование проекции на сценической площадке в начале XX в. связано с новизной устройства и его статуса «аттракциона». Но, несмотря на это, уже тогда формируются основные функции проекций в общей ткани повествования, предполагающие расширение пространства спектакля за счет внедрения содержательных и декоративных киноматериалов. Наиболее популярным в те годы становятся проекции исключительно как демонстрации места действия, что говорит о самой первой сценографической функции.
Новый виток развития экраны получают в авангардистских экспериментах 1920-х гг. Режиссеры В. Э. Мейерхольд и С. М. Эйзенштейн практически одновременно стремятся внедрить проекции в ткань своих спектаклей. Так, в постановке «Земля дыбом» (1923) Всеволод Эмильевич размещает экран на самом верху сцены, превращая его в часть строительного крана. Он стремится усилить воздействие на зрителя через изображение агитационных лозунгов на проекции, сместив акцент на действующих лиц [2]. Как отмечают в своих рецензиях знаменитые театроведы А. А. Гвоздев и П. А. Марков, экраны представляли собой «комментарий к драме» и обладали «плакатной манерой представления» [1–2]. В том же году Сергей Эйзенштейн выпускает спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (1923), в котором использует экран в качестве экспозиционных элементов спектакля. Режиссер определяет роль кино в театре как «пояснение» происходящего и «резюме» произошедшего [3]. Таким образом, мы видим, что развитие функций экрана на сценической площадке развивается по двум направлениям: как комментарий к действию и как композиционная часть спектакля, однако, несмотря на кардинально разные методы интеграции проекций, работы режиссеров преследуют общую цель – распределение элементов сюжета между реальным действием и проекционным изображением.
Параллельно с отечественными режиссерами в Германии свои методы внедрения экранов на сцену формирует Эрвин Пискатор. В его работе «Политический театр. История 1914–1929 гг.» (1929) режиссер обращается к вопросу технических инноваций сценической площадки и выделяет первую в мире классификацию «киноматериалов» в ткани спектакля. Основываясь на собственном практическом опыте, он выделяет три категории фильмов, которые необходимо использовать во время постановки спектакля: учебный, игровой, комментаторский [2, с. 160–164]. Анализируя соб- ственный спектакль «Распутин, Романовы, война и восставший против них народ» (1927), Пискатор выделяет общее условие для представленных уже категорий фильмов — расширение пространства спектакля с помощью документального материала, при этом важной особенностью является формирование исторического контекста [2, с. 154–160].
Вместе с этим, используя в качестве примера свой спектакль «Похождения бравого солдата Швейка» (1928), режиссер отмечает важность кинопроекций в сценографическом оформлении. Он описывает сцену, где главный герой является единственным живым актером, а все остальные персонажи представлены в качестве марионеток и проекций. Конфликт спектакля выстраивается преимущественно на столкновении двух миров: между сатирическим изображением на экране, где нарисованные гротескные персонажи выполняют трюковые элементы, и реальной сценической площадкой, где Швейк реагирует на происходящее в присутствии безжизненных кукол вокруг [Там же, с. 181–182]. В рамках единого сценического пространства постановки формируется новый подход, который стремится к единству действия как в жизни, так и на проекции. Таким образом, концепция Эрвина Пискатора связывает между собой все ранее использованные средства внедрения проекции на сцену, окончательно утверждая содержательную функцию экрана.
Дальнейшие эксперименты с применением проекций находят свое развитие в Чехословацкой Социалистической Республике 1930-х гг. Режиссер Эмиль Франтишек Буриан вдохновляется идеями Рихарда Вагнера, описанными в «Произведение искусства будущего», и стремится достичь настоящего синтеза искусств с помощью современных технологий (кинопроекция, слай-шоу, радио, музыка и звукорежиссура). При этом режиссер отмечает кинофильмы как самый важный элемент всего синтеза, так как именно проекция позволяет театру отойти от натурализма и утвердить «деталь» (крупность, позволяющая максимально сосредоточить внимание зрителя на каком-то конкретном элементе сцены) как наиважнейшее средство для обострения драматического конфликта. Акцентирование и укрупнение того или иного элемента спектакля позволяет зрителю увидеть недоступные для него фрагменты [6].
В своих работах «Пробуждение весны» (1936) и «Евгений Онегин» (1937), Эмиль Буриан использует новаторский принцип построения пространства для работы с проекционным экраном – «Theatregraph». Идея заключается в том, что все сценическое пространство перекрывает прозрачная сетка, на которую и проецируется кинофильм. «Театральная графика» представляет собой совершенно новую форму, выстраивая соотношение зрительного зала и сцены подобно театральному глазку, который дает возможность одновременно фиксировать игру актеров и проецируемое изображение на прозрачную ткань [7]. Так, в спектакле «Пробуждении весны» режиссер с помощью «театральной графики» выводит детальный план «глаз героя», акцентируя его эмоциональное состояние в процессе диалога. По словам театральных критиков и театроведов тех лет, лаконичное выражение «детали» на сетке формирует новый поэтический язык, углубляя работу и формируя «новое измерение» [9–10]. Способность киноматериалов обрисовать настроение, освободить ограниченное театральное пространство и раскрыть более глубокую реальность под завесой слов и стихов — это новые функции экрана, которые полностью сформулируют американские деятели театра 1940-х гг.
Американский художник-постановщик Роберт Эдмонд Джонс в 1941 г. выпускает свою книгу по современному сценическому дизайну «Драматическое воображение», впервые затрагивая тему описания киноматериалов в пьесе. В главе «Новый вид драмы» Джонс говорит об экране как о «выражении бессознательного». По его мнению, изображение и актер в синтезе создают совершенно новую форму театрального искусства, которая позволяет расширить рамки пьес до бесконечности, используя все обилие образных систем. Также автор рассуждает на тему объективности сцены и субъективности экранного изображения, что в сочетании создает контрапункт физической и духовной жизни [8]. Явное влияние идей Р. Э. Джонса можно проследить в пьесе
Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец» (1944), в замечании к постановке которого автор пишет о назначении экрана. Драматург отмечает, что проекции позволяли раскрыть мысли героев и усилить содержание пьесы [13]. В указанных работах мы видим совершенно новый способ объединения сценического пространства и экрана – «выражение бессознательного». Возможность выстраивать действие через изображение символов и обращению к человеческому подсознанию окончательно формирует символистскую функцию экрана.
Во второй половине XX в. экранные технологии преобразовываются и постепенно становятся доступны массовому потребителю, что закономерным образом приводит к новым экспериментам их внедрения на сценическую площадку. Так, на всемирной выставке современных технологий и инноваций EXPO-58 в Брюсселе чешский сценограф Йозеф Свобода представляет миру первое мультимедийное шоу Laterna Magi-ka, а также знаменитый Polyecran [14]. Работы сценографа концентрируются преимущественно на идеях популярного в те годы направления поп-арт, в основе которого лежит мысль о фрагментарности окружающей нас действительности, где каждый объект – окно в совершенно новую реальность. Йозеф Свобода, используя принцип чистого коллажа (объединение разных сегментов в одном пространстве), определяет взаимоотношения между изображением и артистом как «сверхреали- стичные», указывая на «новую реальность», возникающую в процессе общего существования [11]. Свобода предлагает публике новую систему средств выразительности и оригинальные приемы, которые совершенствуются с каждым новым его спектаклем. В паре с чешским режиссером Альфредом Радоком они пытаются объединить киноискусство и театр. Отличительными особенностями их спектаклей становится широкий жанровый диапазон и динамичность монтажных склеек. Принципиально новаторы выдвигают два способа организации пространства: Laterna Magika и Polye-cran. В первом случае наблюдается продолжение идей Эмиля Буриана. Однако сценограф и режиссер не только стремятся к отображению детали на экране, но и комбинируют сценическое действие с экранным, позволяя актеру проникнуть в новое пространство. Во втором – мы видим сегментирование изображения по всей театральной площадке и трансляцию самых разных знаковых систем, которые нередко обращены к явлениям массовой культуры. Рассматривая работы новаторов, мы можем говорить о формировании интерактивной и декоративной функции.
Таким образом, к концу XX в. появляется активная практическая база использования экранных технологий на сценической площадке по всему миру. В каждом из приведенных примеров наблюдается собственный уникальный подход к синтезу сценического и виртуального пространства (выраженного экранными технологиями), однако преимущественно они представлены частными приемами, ограничивающие вариативность применения. Проследив развитие внедрения устройства на сценическую площадку, мы можем указать следующие функции, которые режиссер должен учитывать при использовании экрана.
Сценографическая функция – изображение места действия (лес, дом и т. п.).
Декоративная функция – изображение с целью украшения или формирования интертекста (фигуры, драгоценности, симметричные планы, идеальные композиционные кадры, объекты массовой культуры, картины известных художников и т. п.).
Содержательная функция – комментирует происходящее или визуализирует параллельное действие, формирует исторический контекст (действие в другой комнате, хроникальные кадры, события прошлого или будущего, объяснение событий).
Символистская функция – обращение к человеческому бессознательному, изображение настроения героев и номера, передача атмосферы, создание контрапункта
(субъективная камера, ассоциативный видеоряд, погодные явления, дублирование героя и т. п.).
Интерактивная функция – взаимодействие виртуального и сценического действия (прямая трансляция, изменение изображения с помощью реального героя, экран как самостоятельный персонаж).
Разумеется, встретить в современной постановочной практике ту или иную функцию в чистом виде становится практически невозможным, однако подобная классификация не подразумевает собой строгое установление догматов использования, а, наоборот, позволяет режиссеру достигать необходимых задач при их сочетании. Каждая форма зрелищного искусства – тщательно продуманная конструкция, состоящая из множества разных смысловых единиц. Экран представляет собой не просто замену «холста» цифровой картинкой, а напротив, требует разработанного замысла, который успешным образом интегрируется в пространство зрелища, расширив его художественный потенциал.