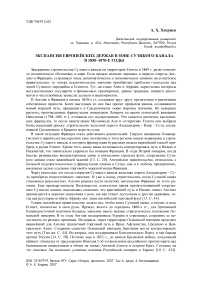Экспансия европейских держав в зоне Суэцкого канала в 1850-1870-е годы
Автор: Хизриев А.Х.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736906
IDR: 14736906 | УДК: 94(931).02
Текст статьи Экспансия европейских держав в зоне Суэцкого канала в 1850-1870-е годы
Завершение строительства Суэцкого канала на территории Египта в 1869 г. резко изменило политическую обстановку в мире. Если прежде великие державы, в первую очередь Англию и Францию, устраивало лишь дипломатическое и экономическое влияние на египетское правительство, то теперь исключительное значение приобретает проблема господства над зоной Суэцкого перешейка и Египтом. Тут, на стыке Азии и Африки, скрестились интересы могущественных государств и финансовых группировок, давние традиции, интриги дипломатов и честолюбивые замыслы дельцов и авантюристов.
И Англия и Франция в начале 1850-х гг. создавали друг другу препятствия в реализации собственных проектов. Более выгодным из них был проект прорытия канала, создававшего новый морской путь, придавшего и Средиземному морю мировое значение. Но неверные расчеты, произведенные французским инженером Лепером во время египетской кампании Наполеона (1798–1801 гг.), отложили его осуществление. Что касается англичан, вытеснивших французов, то после капитуляции Мухаммеда Али и «открытия» Египта они выбрали более надежный проект: строительство железной дороги Александрия – Каир – Суэц, соединявшей Средиземное и Красное моря по суше.
В такой ситуации Франция стала действовать решительней. Твердое намерение бонапартистского правительства укрепить свое положение в этом регионе нашло выражение в строительстве Суэцкого канала, в котором французская буржуазия видела вернейший способ прибрать к рукам Египет. Кроме того, канал давал возможность контролировать путь в Индию и Индокитай, что значительно укрепило бы позиции Франции. В годы Второй империи, когда быстро развивались внешнеторговые связи и интенсивно строился флот, сооружение Суэцкого канала стало важнейшей задачей [13. С. 20]. Английское правительство, относилось с большой подозрительностью к французским планам в Суэце, как и к любому предприятию, имевшему целью усиление торговой и морской мощи Франции.
Через несколько лет после открытия Суэцкого канала железная дорога Александрия – Суэц приобрела второстепенное значение. И уже к концу строительства, когда Суэцкий канал становился реальностью, Англия решила вести политику вытеснения Франции из этого региона. Еще премьер-министр Пальмерстон, длительное время препятствовавший сооружению Суэцкого канала, высказывал опасения, что кратчайший путь в Индию лишит Англию преимуществ в морских сношениях с нею, так как станет доступным и другим державам, тогда как регулярно огибать Африку мог лишь английский торговый флот [15. С. 44].
Теперь английское правительство делало все, чтобы взять Суэцкий канал, а значит, и весь Египет, полностью в свои руки. Прежде, вплоть до середины 1860-х гг., для британской ближневосточной политики большое значение имело важное стратегическое положение Османской империи. В те годы Англия поддерживала Турцию и стремилась сохранить ее целостность по разным причинам. Во-первых, через территорию Османской империи проходил важнейший для Англии транзитный торговый путь в Иран, Афганистан, Среднюю и Центральную Азию. Сохранив единство Османской империи, Британия могла контролировать этот путь [Там же. С. 44]. Во-вторых, она поддерживала Блистательную Порту и как барьер против России [14. С. 58]. Поэтому еще в 1853 г., до начала Крымской войны, лондонский кабинет отказался от предложения Николая I об установлении российского протектората над балканскими княжествами в обмен на захват Англией Египта и острова Крит. Согласие на это означало бы излишнее усиление влияния Российской империи в Европе [10. С. 434].
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 4: Востоковедение © А. X. Хизриев, 2007
В донесении от 6 февраля 1863 г. министру иностранных дел А. М. Горчакову русский посол в Лондоне Ф. И. Бруннов писал: «С начала века английская политика на Востоке руководствуется чувством глубокого недоверия к России. Англия считает, что кабинет Санкт-Петербурга озабочен постоянным стремлением либо увеличить свои земли за счет Турции, либо расширить свое влияние на христианские народы, чтобы достичь расчленения Османской империи. Обеим этим тенденциям противится британский кабинет. Его жизненный интерес к этому обязывает. В его глазах Европейская Турция – барьер, отделяющий нас от Средиземноморья, а Азиатская Турция – щит, усиливающий безопасность английских владений в Индии. Это объясняет постоянство ее усилий, которые она нам противопоставляет всякий раз, когда полагает, что ее прямым интересам угрожает наша враждебная позиция к Турции» 1 . Того же мнения придерживался и А. А. Гирс [8. С. 209]. Можно сказать, что к 1840-м гг. правительство Пальмерстона достигает своей цели на Ближнем Востоке: ликвидации доминирующего влияния России в Османской империи, которым Петербург пользовался до 1833 г. [2. Р. 106].
В это же время Англия предложила турецкому правительству соединить железной дорогой залив Искендерун с Биледжиком, от него до Басры открыть пароходное сообщение по Евфрату, а затем путь проходил бы через территорию Ирана и Белуджистана в Индию [15. С. 44]. Но вскоре эта идея потеряла свою актуальность. Открытие Суэцкого канала и усиление английского влияния в Египте отодвинули на задний план идею трансазиатского пути, тем более что проведение железной дороги, более или менее параллельной Суэцкому каналу, не было бы выгодной финансовой операцией [12. С. 100].
Если экспедиция Наполеона I открыла Египет для Европы, то строительство Суэцкого канала, санкционированное Наполеоном III, привело к тому, что «египетский вопрос» стал одним из основных вопросов европейской политики. В условиях, когда «заколдованный круг» Османской империи уже не обеспечивал явного преобладания Великобритании в долине Нила, изменение статуса Египта было лишь вопросом времени [6. С. 37–38]. По этой и ряду других причин в 60-е – начале 70-х гг. XIX в. Англия начинает пересматривать свою восточную политику. Продолжая, по выражению французского министра иностранных дел Э. Дру-эна де Люиса, «окружать Османскую империю ревнивой заботливостью, британское правительство как будто бы несколько усомнилось в непогрешимости средств, к которым оно прибегало до сих пор» [15. С. 120]. В эти годы оно фактически отказалось от политики статус-кво и разработало программу по разделу Турции [7. С. 222]. Национальноосвободительное движение на Балканах, тенденции к независимости в Сирии, Египте, Ливане и других провинциях империи доказывали невозможность сохранения ее территориальной целостности, которую Англия поддерживала более полувека.
Англо-французское соперничество в середине 1860-х гг. усилилось именно по этим причинам. Теперь препятствий для раздела «турецкого пирога» великими державами, в том числе и Россией, больше не существовало. Вопрос был только в том, кому достанется «самый большой и лакомый кусок». Что касается остальных европейских держав, то более или менее активную роль в египетском вопросе играла кайзеровская Германия. В отличие от Англии и Франции Германия не имела крупных финансовых интересов в Египте. В своих донесениях русский генеральный консул в Каире Лекс намекал, судя по всему, на антифранцузский аспект вмешательства Германии 2 . Эта политика была направлена не столько против Всеобщей компании, сколько против Франции, и имела в виду углубление англо-французских противоречий [10. С. 505]. Военная тревога 1875 г., когда Англия совместно с Россией поддержала Францию в ее конфликте с Германией, сделала задачу разжигания англо-французского и англо-русского соперничества еще более актуальной для германской дипломатии [Там же. Т. 2. С. 20–21, 69]. Стремление юнкерско-буржуазной империи Гогенцоллернов к гегемонии в Европе диктовало политику разъединения главных соперников, что и определяло позицию Бисмарка в египетском вопросе [11. С. 147].
Конечно, нельзя исключать из активных игроков восточной политики саму Османскую империю. Будучи объектом политики европейских держав, она продолжала предъявлять свои сюзеренные права в Тунисе, Сирии, Египте, уже ставших объектом дележа Франции и Анг- лии. В начале 1870-х гг. внимание Турции концентрируется на укреплении власти в мусульманских провинциях, населенных арабами. Сопротивление в некоторых из них подавляли с помощью карательных экспедиций, что давало определенный эффект, пусть и временный [16. С. 100].
Хотя Фердинанду де Лессепсу и удалось добиться разрешения на строительство канала вопреки английским проискам в Стамбуле и активному противодействию британского кабинета, борьба за влияние в этом регионе разгорелась с новой силой. В этой ситуации наместник Египта Исмаил пытался извлечь пользу от чрезмерного внимания европейцев к своей стране. Он прислушивался то к английскому послу Г. Булверу, то к французскому послу де Мустье, желая добиться большей независимости от Порты [Там же. С. 121]. В этом проявилось стремление Исмаил-паши к неограниченной власти [9. С. 237]. При этом он осуществлял довольно гибкую политику в отношениях со Стамбулом, сохраняя дружеские отношения с султаном. Достаточно вспомнить, что султан Абдулазиз, правивший в 1861–1876 гг., приходился ему двоюродным братом (их матери были сестрами). После своего восшествия на престол Исмаил отправился в Стамбул, чтобы быть провозглашенным Великим визирем. Позже, в том же 1863 г., Абдулазиз сам посетил Египет (впервые со времен Селима I), проявляя благосклонность к своему вассалу. Исмаил, в свою очередь, постепенно добивался от него одной привилегии за другой [5. S. 26].
Согласно восточным традициям, власть передавалась не по принципу первородства, т. е. не от отца старшему сыну, как это было в Европе, а старшему в роде, так как на Востоке преобладал принцип старшинства. Тот же порядок соблюдался и в султанской Турции, а фирман 1841 г. закреплял это положение в Египте. Однако такой способ передачи власти дважды создавал проблемы в династии Мухаммеда Али. Сначала Ибрахим незадолго до своей смерти пытался исключить Аббаса из числа претендентов на власть в пользу своего старшего сына. После убийства Аббаса его смерть скрывали в течение 24 часов, чтобы возвести на трон его сына вместо Саида. Обе эти попытки оказались неудачны, создав на непродолжительное время кризис власти. Что касается Исмаила, то, после смерти Саида, он без труда пришел к власти. Но такой порядок престолонаследия его не устраивал, поскольку в будущем опять мог привести к попыткам дворцового переворота. Его задачей стало добиться разрешения от Абдулазиза I на наследование власти по принципу первородства. После очередного визита в Стамбул он добился этой цели, осыпав щедрыми дарами высших османских сановников, в том числе и самого султана. В мае 1866 г. был издан фирман, закреплявший право наследования в Египте от отца к старшему сыну. При этом вдвое увеличивался размер дани, ежегодно выплачиваемой Порте [4. P. 175]. Все последующие правители Египта наследовали по принципу первородства, хотя дважды он все же был нарушен, так как и Хусейн Камиль (1914–1917 гг.) и Фуад (1917–1936 гг.) были сыновьями Исмаила [3. P. 196].
8 июня 1867 г. Исмаил получил наследственный титул хедива (от перс. «повелитель»), который неофициально носил еще его дед Мухаммед Али, вместо прежнего вали , которым именовались все наместники провинций. Этим титулом подчеркивалось особое место Египта и его правителя по сравнению с другими османскими провинциями и их губернаторами. В 1873 г. по настоянию Исмаила султан издал указ о финансовой автономии Египта, с одной стороны, ослаблявший зависимость первого от Стамбула, а с другой – открывавший путь для иностранной финансовой интервенции в страну, для которой все это имело роковые последствия [1. С. 80–86]. Ослабление сюзеренитета Блистательной Порты над Египтом позволяло теперь Англии и Франции окончательно прибрать его к рукам и стало первым шагом в разделе Оттоманской империи между европейскими державами.
Материал поступил в редколлегию 24.04.2007