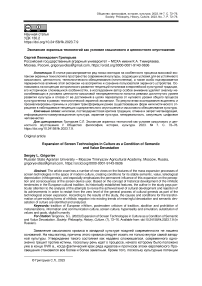Экспансия экранных технологий как условие смыслового и ценностного опустошения
Автор: Григорьев С.Л.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается ряд новых взглядов на особенности процесса массовой экспансии экранных технологий в пространство современной культуры, создающих условия для ее устойчивого смыслового, ценностного, телеологического обесценивания (нигитогенеза), а также особо подчеркивается перманентное влияние этой экспансии на восприятие и сознание пользователя экранного устройства. Основываясь на концепции исторического развития тенденций нигилизма в европейской культурной традиции, его исторически сложившихся особенностях, в исследовании автор особое внимание уделяет анализу неослабевающих в условиях ценностно-смысловой неопределенности попыток ревизии достигнутого уровня развития культуры и отказа от ее достижений в целях перезапуска от нулевого уровня общего процесса культурогенеза в рамках технологической экранной экспансии. По результатам исследования выделены и проанализированы причины и условия трансформации ранее существовавших форм нигилистического отрицания в наблюдаемые тенденции содержательного опустошения и смыслового обесценивания культуры.
Нигилизм, постмодернистская критика традиции, отмена и запрет метанарраций, информационно-коммуникационная культура, экранная культура, гиперреальность, симуляция, цифровое человечество
Короткий адрес: https://sciup.org/149144035
IDR: 149144035 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.7.9
Текст научной статьи Экспансия экранных технологий как условие смыслового и ценностного опустошения
и генеративы эпохи европейского романтизма на протяжении следующего, XIX, столетия практически полностью исчерпали себя, к рубежу позапрошлого и прошлого столетий Европа уже подошла в состоянии, когда кризис культуры и аксиологии стал устойчивой частью более общего цивилизационного кризиса, чему подтверждением являются, с одной стороны, возникновение в течение XIX в. философской неклассики (C. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), с другой – объективная фактология общей европейской истории (две мировые войны практически одна за другой в течение XX в.).
Философское завещание Ф. Ницше – Neubewertung aller Werte («Переоценка всех ценностей») – было воспринято некоторыми его современниками и последователями слишком буквально, а его идеи ошибочно (справедливости ради следует отметить, не без активных стараний его волевой и эгоистичной родной сестры Э. Фёрстер-Ницше, ставшей еще до кончины брата его единоличной литературной душеприказчицей и активно сотрудничавшей в дальнейшем с национал-социалистами в Германии) масштабированы «в массы» как категорическое побуждение к немедленным действиям, последствия которых оказались более катастрофическими, нежели могли предположить недальновидные инициаторы всех последовавших перемен (Ницше, 2020). Проблема Европы оказалась связанной не с декларируемой ею «эталонной» полной свободой в выборе ценностей дальнейшего развития цивилизации, а с ее же полной неразборчивостью в этом выборе, свидетелями которой мы, к сожалению, продолжаем оставаться и по сегодняшний день.
Первую осторожную критику этих опрометчивых подходов предпринял в анализе творчества Ницше М. Хайдеггер (Сидоров, 2021: 61); определенные мотивы переосмысления бывшего культурного опыта зазвучали в художественной культуре первой половины прошлого столетия (сюрреализм, дадаизм) и относящейся к тому же периоду литературе («новый роман», театр абсурда). Однако подлинно радикальную, поистине нигилистическую критику сложившейся культурной традиции продемонстрировал во второй половине прошлого века европейский постмодернизм. Постмодерн объявил доминирующие до того в истории философии и культуры мета-наррации в качестве преобладающего источника ложных ценностей и идеалов и просто «отменил» их, закрепив на будущее «состояние постмодерна» не только как решительный отказ от собственно метанарраций, но и как запрет использования их в качестве инструментов легитимации и последующего закрепления новых ложных ценностей и идеалов в текущем историческом дискурсе философии и культуры1.
Переживая обновленную ситуацию европейской нигилистической традиции в ее постмодернистском варианте, цивилизация вступила в эпоху постиндустриального (информационного) общества с быстро меняющимся характером культуры нового типа, которая стала характеризоваться не только отменой стремительно устаревающих ценностей и идеалов предшествующего исторического периода, но и быстрым развитием ряда культурных инноваций. Все это время материальным фундаментом обеспечения указанного обновления продолжал оставаться научно-технический прогресс, крупнейшими вехами которого оказались изобретение и массовое производство ПК, развитие и распространение Интернета, возникновение феноменов виртуального пространства и коммуникации в режиме удаленного доступа, появление все более удобных в использовании и все более технически совершенных мобильных экранных устройств. Тем не менее этот стремительный прогресс в научно-технической и инженерно-технологической сфере оказался неспособен повлиять в позитивном ключе на области телеологии и аксиологии развития этого сильно изменившегося социокультурного контекста существования современного общества, а скорее наоборот – добавил (в том числе в этих сферах) к человеческому бытию в условиях новой информационно-коммуникационной культуры ряд принципиально новых вопросов, необходимость поиска ответов на которые и определила, по существу, актуальность настоящего исследования.
Цель исследования – выявление, изучение и анализ причин возникновения условий ниги-тогенеза (смыслового и ценностного опустошения) современной цивилизации в результате масштабной экспансии экранных технологий в ее культуру. В работе были использованы методы текстового анализа, контент-анализа, кросс-факторного анализа ряда источников по параметрам, изучение содержания которых способствовало достижению заявленной цели.
Устойчивость и воспроизводимость тенденций нигилизма в европейской культуре в значительной степени остаются следствием существующих историко-философских подходов к этому явлению. Общая и частная феноменология таких подходов чаще всего рассматривается как следствие проявления действия специфических причин в общем европейском социокультуроге-незе, что в логическом пределе приводит к рассмотрению и анализу проявлений нигилизма только как рефлекторных или только как транзиторных.
В самом общем виде такие подходы, равно как и всю методологию, возводимую на их основе, следует признать верными только отчасти. Научно-философская европейская мысль до определенного времени осторожно дистанцировалась от рассмотрения феноменологии нигилизма в качестве культурного генератива, вероятно, опасаясь результатов такого рассмотрения, а ведь это было время предчувствия, усиления ощущения надвигающегося краха. В России в начале прошлого века появляются такие сборники, как «Вехи», «Из глубины», уровня беспристрастности и радикальности критицизма которых Европа смогла достичь только по результатам двух прокатившихся по ее территории мировых войн, когда значительная часть ее уже лежала в послевоенных руинах.
В отсутствие критики преимущественно маскированный характер нигилистических генера-тивов приводил и до настоящего времени зачастую приводит к тому, что разнообразно порождаемая ими культурная феноменология, неявно сохраняя внутреннюю нигилистическую природу (Инишев, 2020: 33), наносящую базисной аксиологии процессов культурного строительства и развития непоправимый вред, позиционируется как не имеющая явной связи со своими причинами.
При углубленном анализе эти тенденции можно наблюдать также в период развития и обострения настоящего кризиса. Например, в последнее время финалистские трактовки развития нигилистических тенденций и проявлений в научно-философской мысли современной Европы все более утрачивают актуальность и все чаще начинают рассматриваться не столько как результат, сколько как процесс «целесообразной» в сложившихся обстоятельствах культурной регрессии посредством нигилизма. И это несмотря на ряд уже опубликованных фундаментальных критических философских трудов (О. Шпенглер, Г. Маркузе, Г. Дебор, Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Т. Адорно и др.), и прежде всего для того, чтобы «освежить» актуальную проблематику последующего культурного развития, тем самым придав ему новый импульс принудительным образом. Нигилизм из дескриптора культурного развития превращается в его фактор, а само пространство культуры, в терминологии Ж. Бодрийяра, – в один бескрайний и бессистемный «Великий Бобур», где одни нигилисты всеми доступными им способами реализуют деструктивные интенции, а другие – всецело заняты лицезрением этого разрушения (Бодрийяр, 2006: 39).
С развитием индустрии производства персональных электронных гаджетов, обеспечивающих удаленный доступ к источникам информации любого характера, возможности для симуляции любых значений и смыслов через загрузку гиперреральности (вместо реальности (Григорьев, 2022б: 174)) в восприятие пользователя через экран его персонального гаджета несопоставимо расширяются по сравнению с возможностями предыдущей эпохи, о которой еще совсем недавно писал Ж. Бодрийяр. Сегодня подключение к «Великому Бобуру» требует от потенциального реципиента культурного контента минимума времени и усилий – можно крушить что-то самому (в игровом режиме), а можно сколь угодно долго лицезреть, как это делают другие, путешествуя по соответствующим видеохостингам, причем и первое, и второе при желании могут быть облечены в форму «культурного перфоманса» (Миронов, Сокулер, 2018: 19).
Таким образом, культура современного социума по преимуществу становится экранной потому, что действительность во всей полноте может быть представлена взору пользователя посредством экрана носимого гаджета (Григорьев, 2022а: 169). Иначе говоря, внутри этого специфического культурного пространства экран мобильного устройства прогрессирующе утрачивает признаки несамостоятельного посредника (инструмента) между «я» и «не-я» и в большей степени примеряет на себя роль самостоятельного (в рамках обновляющейся культурной коммуникации) феномена, превращая означенную диаду в триаду со всеми вытекающими из этого последствиями для пользователя1.
В процессе глобальной цифровизации простой коммуникацией дело не ограничивается (Познин, 2019: 99), поскольку львиная доля всех повседневных практик человека: образование, профессиональная и публичная деятельность, досуг – все это становится экранным (Волкова и др., 2021: 60). Можно допустить, что относительное сопротивление всему этому наваждению временно окажут материальные и духовные сферы деятельности человека, связанные с его телесностью, например питание, гигиена, медицина, физическая культура, спорт (Беззубова, 2012: 78). Однако, как представляется наиболее вероятным, по совокупности всех процессов цифровизации, виртуализации и экранизации, которые осуществляются в этих областях сегодня, скорее всего, все сопротивление неизбежному продлится недолго. Недаром наиболее прогрессивные современные мыслители усматривают в сегодняшнем экране протез завтрашней человеческой телесности, причем протез такого рода, без которого телесность по мере виртуализации и экранизации бытия не сможет обходиться (Ямпольский, 2012: 64).
Глядя на не выпускающего из рук смартфон, полностью погруженного в недра экранного бытия индивида, и стараясь предсказать его завтрашний образ, вспоминаешь платоновский миф о «пленниках пещеры» (Саенко, 2019: 113). Можно открыть пленникам выход из пещеры, но это отнюдь не станет равно их освобождению (Шилина, 2016: 113).
Таким образом, завладевая вниманием и восприятием, а вслед за ними и мышлением пользователя, экран погружает все перечисленное в собственный экранный хронотоп, пространство и время которого, в отличие от позиции И. Канта, более не являются «априорными конструкциями логического сознания», поскольку задаются этому сознанию принудительно извне, создавая у последнего лишь иллюзию контроля за ними (Гладких, 2018: 111). Вторгаясь в реальную жизнь человека, экранные технологии незаметно для использующего их изменяют ее течение, целеполагание, направление развития, предлагая вместо одних ценностей и ориентиров другие, являющиеся только внешним, поверхностным подобием реальности. «Диджитализация общества при все возрастающих объемах коммуникативных интеракций усиливает отчуждение человека от власти, от государства, от социума, от другого человека и в конечном итоге – от себя самого» (Жукоцкая, 2021: 12).
Именно это становится инициальной причиной возникновения и закрепления прогрессирующих процессов нигитогенеза культуры и бытия современного человека и общества (Саенко, 2020). Вследствие этой подмены жизнь индивида превращается в симуляцию самой себя. По словам Ж. Бодрийяра, симулякр не есть сокрытие истины, он сам – истина, скрывающая то, что ее не существует (Бодрийяр, 2006: 4). Если этого не понимать, то можно наедине с экраном оставаться до собственной физической кончины (такие примеры уже есть), поскольку, согласно Ж. Бодрийяру, смерть как предел всего реального не может являться объектом симуляции (Бод-рийяр, 2021: 409), и тем самым она же становится последним средством разрешения всего того, что не смогла разрешить подверженная симуляции жизнь, исподволь лишенная ею действительных, подлинных целей и ценностей.
C нашей точки зрения, можно сделать следующие выводы.
-
1. Европейская традиция нигилизма имеет длительную историю, обусловленную латентным кризисом аксиологии и телеологии культурного и общественного развития, неопределенностью выбора в течение более чем двух последних столетий европейской истории приоритетов дальнейшего развития культуры.
-
2. По существу, культурный нигилизм и инспирируемый им последующий нигитогенез становятся инструментами редукции достигнутого уровня культурного развития, имеющей целью радикальный отказ и последующий «перезапуск» всего этого процесса в алармистском режиме.
-
3. XX столетию суждено было стать периодом проявлений наиболее радикальных нигилистических тенденций в европейской культуре, чрезвычайно усугубившихся с критикой сложившейся культурной традиции интеллектуальным течением постмодернизма, а затем и с переходом к информационно-коммуникационной культуре нового типа, в значительной степени опирающейся на прогресс в сфере создания и массового распространения индивидуальных мобильных устройств экранного типа.
-
4. Рубеж прошлого и нынешнего столетий становится временем возникновения культуры принципиально нового типа – экранной культуры, массовой, мобильной и иммерсивной, но остающейся симулятивной по своей природе и тем самым неспособной решить ряд наиболее актуальных и злободневных вопросов бытия современного человека и человечества.
-
5. Виртуализация восприятия и мышления индивида приводит к подмене целей и ценностей его индивидуального бытия их симулякрами.
Список литературы Экспансия экранных технологий как условие смыслового и ценностного опустошения
- Беззубова О.В. Визуальная культура и визуальный поворот в культуральных исследованиях второй половины XX в. // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 5 (49). С. 75–79.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. С.Н. Зенкина. М., 2021. 512 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М., 2006. 320 с.
- Волкова В.О., Малахова Н.В., Волков И.Е. Имагинация как феномен познания // Философская мысль. 2021. № 6. С. 54–66.
- Гладких А.С. Потенциал семиотического подхода в контексте современной визуальной культуры // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2018. № 4. С. 109–112.
- Григорьев С.Л. Анатомия экранного образа // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2022а. Т. 4, № 1. С. 164–170. https://doi.org/10.46539/gmd.v4i1.240.
- Григорьев С.Л. Метафора дигитальной пещеры в концептуальных интерпретациях экранной культуры // Общество: философия, история, культура. 2022б. № 3. С. 171–175. https://doi.org/10.24158/fik.2022.3.28
- Жукоцкая А.В. Цифровизация и некоторые риски «прозрачного» общества // Цифровая гуманитаристика: человек в «прозрачном» обществе: коллективная монография. М., 2021. С. 5–13.
- Инишев И.Н. Распределенная образность: имагинативные практики современной культуры // Praxema. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1 (23). С. 31–46. https://doi.org/10.23951/2312-7899-2020-1-31-46.
- Миронов В.В., Сокулер З.А. Тоска по истинному бытию в дигитальной культуре // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2018. № 1. С. 3–22.
- Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / пер. с нем. под общ. ред. Ф. Зелинского и др. СПб., 2020. 479 с.
- Познин В.Ф. Пространство и время экранного хронотопа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусство-ведение. 2019. Т. 9, № 1. С. 93–109. https://doi.org/10.21638/spbu15.2019.105.
- Саенко Н.Р. «Медленное движение» как стратегия духовной безопасности в современной культуре // Коммуникативные технологии в образовании, бизнесе, политике и праве: проблемы и перспективы реализации в современной цифро-вой среде: сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. М.Р. Желтухина. Волгоград, 2019. С. 112–113.
- Саенко Н.Р. Формы и образы небытия в культуре. Саратов, 2020. 294 с.
- Сидоров А.М. Постмодерн и нигилизм (стратегии критики нигилизма в философии Ж.-Ф. Лиотара) // Chronos. 2021. Т. 6, № 11. С. 59–63.
- Шилина М.Г. Визуализация как императив коммуникации в парадигме big data? // Визуальная коммуникация в соци-окультурной динамике: сб. ст. II Междунар. науч. конф. / под ред. Н.Ф. Федотовой. Казань, 2016. С. 112–117.
- Ямпольский М. Экран как антропологический протез // Новое литературное обозрение. 2012. № 114. С. 61–74.