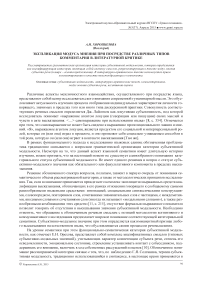Экспликация модуса мнения при посредстве различных типов комментария в литературной критике
Автор: Хорошилова Антонина Ивановна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (37), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается грамматическая организация категории субъективной модальности, которая определяется как квалифицирующая категория, являющая собой систему смыслов, репрезентирующих в тексте модус мнения субъекта речи (и шире - агента предложения). В литературно-критическом тексте используется прием комментирования в качестве текстообразующего компонента
Субъективная модальность, литературно-критические текст, комментирование, модус мнения субъекта речи, негативная оценка
Короткий адрес: https://sciup.org/14822259
IDR: 14822259
Текст научной статьи Экспликация модуса мнения при посредстве различных типов комментария в литературной критике
Различные аспекты межличностного взаимодействия, осуществляемого при посредстве языка, представляют собой центр исследовательского внимания современной гуманитарной мысли. Это обусловливает актуальность изучения процесса отображения индивидуальных характеристик личности говорящего, значимых в пределах того или иного типа дискурсивной практики. Совокупность соответствующих речевых смыслов определяется Дж. Лайонзом как локутивная субъективность, под которой исследователь понимает «выражение агентом локуции (говорящим или пишущим) своих мыслей и чувств в акте высказывания. <…> самовыражение при использовании языка» [8, с. 354]. Отмечается при этом, что самовыражение не может быть сведено к выражению пропозиционального знания и мнений. «Я», выражаемое агентом локуции, является продуктом его социальной и интерперсональной ролей, которые он (или она) играл в прошлом, и оно проявляет себя социально узнаваемым способом в той роли, которую он (или она) играет в контексте высказывания [Там же].
В рамках функционального подхода к исследованию языковых единиц обозначенная проблематика традиционно связывается с вопросами грамматической организации категории субъективной модальности. Несмотря на то, что данный аспект языковой семантики имеет длительную историю изучения, можно признать, что на настоящий момент не существует единообразного понимания категориального статуса субъективной модальности. Не имеет единого решения и вопрос о статусе субъективно-модального значения как обязательного или факультативного компонента в пределах высказывания.
Решение обозначенного спектра вопросов, полагаем, зависит в первую очередь от понимания семантического объема рассматриваемой категории, а также от методологических принципов исследования. Так, если во внимание принимается прежде всего комплекс эксплицитно выраженных средств квалификации высказывания, обозначающих в его рамках отношения говорящего к сообщаемому самыми разнообразными языковыми средствами: интонацией, специальными синтаксическими конструкциями, словопорядком, повторением слов, сочетаниями знаменательных слов с частицами, с междометиями, вводными словами и сочетаниями слов (иногда их называют «модальными словами»), а также разнообразными комбинациями этих средств»[11, с. 215], отсутствие формально выраженного показателя позволит говорить об отсутствии в высказывании значения субъективной модальности. Необходимо отметить, что обращение к обозначенным речевым смыслам с позиций методологии когнитивного и коммуникативного исследования предполагает широкое понимание соответствующей категориальной семантики. Субъективно-модальное значение при этом определяется как имманентный признак любого высказывания на естественном языке, что обусловливается самим процессом речемышления.
На уровне семантики при этом функционально-семантическая категория субъективной модальности, как отмечает Е.Н. Орехова, представляет собой комплекс квалификативных смыслов (типовых субъективно-модальных значений), учитывающих характер компетенции субъекта речи, степень его осведомленности, эмоциональное состояние, стремление устанавливать контакт с собеседником, поддерживать его внимание, включать в ход собственных рассуждений и оценок [10]. Обозначенное понимание рассматриваемой категории связано с тем, что, по наблюдению Г.Я. Солганика, термин субъективная модальность, традиционно использовавшийся в синтаксисе, в настоящее время применяется в лексикологии и фразеологии, в словообразовании, в лингвистике текста. Исследование языка обнаруживает присутствие субъективной модальности на всех его уровнях [14, с. 4]».
Исходя из обозначенных теоретических предпосылок, субъективная модальность определяется нами как квалифицирующая категория, являющая собой систему смыслов, репрезентирующих в тексте модус мнения субъекта речи (и шире – агента предложения). При этом понятие «мнение» употребляется нами в его общеязыковом значении, а именно как суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к кому-чему-нибудь, взгляд на что-нибудь [9, с. 351]. Полагаем, что введение представления о мнении в качестве категориального признака субъективной модальности позволяет подчеркнуть личностное начало описываемого компонента высказывания и, следовательно, отразить не только оце-ночность семантики, но и комплекс индивидуальных характеристик языковой личности субъекта речи, выражаемые той или иной речевой единицей.
Представляется очевидным, вместе с тем, что исследование и описание субъективно-модального компонента текста имеет свою специфику по отношению к семантике соответствующего компонента высказывания. Так, по наблюдениям И.Р. Гальперина, если фразовая модальность выражается грамматическими или лексическими средствами, то текстовая, кроме этих средств, применяемых особым способом, реализуется в характеристике героев, в своеобразном распределении предикативных и релятивных отрезков высказывания, в сентенциях, в умозаключениях, в актуализации отдельных частей текста и в ряде других средств [2, с. 115].
В связи с этим, одним из основных средств актуализации субъективного начала в тексте, можно признать прием комментирования. В.И. Карасик определяет комментарий как жанр герменевтического дискурса, который представляет собой вторичное текстовое образование и выполняет функции разъяснения, подтверждения, уточнения и критической оценки информации, которая содержится в исходном тексте [5, с. 295]. При этом отмечается, что важнейшими когнитивными координатами в моделировании смысла в данном случае являются три феномена – знание, понимание и интерпретация [Там же, с. 280]. Соответствующий текстовый фрагмент имеет двучастную структуру, состоящую из фактологического и оценочного компонентов
Необходимо отметить особый статус комментария в пределах литературной критики. Это обусловливается самой природой литературно-критического дискурса, основу которого составляет процесс интерпретации, вербальное осмысление того или иного факта или явления действительности, сочетающее логическую оценку и индивидуальное эмоциональное переживание. В связи с чем по отношению к литературно-критическому тексту мы полагаем оправданным рассматривать прием комментирования в качестве текстообразующего компонента. В ходе исследования литературно-критического дискурса мы считаем возможным разграничение в его рамках несколько семантических типов комментария.
Одним из основных конститутивных приемов построения литературно-критического текста является метатекстовый комментарий, комментарий внешней направленности. Данный тип комментария содержит апелляцию к другому тексту, при этом ссылка может представлять собой как непосредственное цитирование (то есть дословное воспроизведение фрагмента текста, сопровождаемое указанием на источник), так и косвенное, описательное упоминание, пересказ: Илья Кукулин в своей исключительной по глубине мысли и тем вернее встреченной коллегами в штыки статье уже перечислил основные дебютные площадки 2000-х [7, с. 190]; Пресс-релиз нынешнего года обтекаемо констатирует: «Увеличился объем конкурса» [Там же, с. 186].
Функции обозначенного компонента могут быть различны: подобный тип комментария может служить как для реализации установки на полемику при посредстве обозначения позиции своего оппонента, так и для определения места собственного понимания того или иного феномена в некоем идейном и проблемном пространстве мнений, своего рода знакомством предполагаемой аудитории с иной точкой зрения на рассматриваемые вопросы. Внешними показателями в данном случае являются единицы, указывающие на наличие чужого мнения, речи: кавычки, эвиденциальные квалификаторы, оформляющие значение пересказывания с чьих-либо слов, конструкции косвенной речи, глаголы речемыслительной деятельности и такие метаоператоры как пишет, продолжает (речь, говорить), со- относимые третьим, реже вторым, лицом; а также слова-именования текста, такие как статья, отклик, стихотворение и сходные, которые служат для оформления фрагмента цитируемого или анализируемого текста, в некоторых случаях его обозначения или ссылки на него в общем контексте.
Специфической формой метатекстового комментария, свойственного для литературной критики, и имеющего в ее рамках характер системного и основополагающего элемента является апелляция к тексту-объекту критического анализа. Данные фрагменты могут быть представлены в контексте различным образом – как непосредственно в форме цитирования, так и описательно, например, пересказом краткого содержания анализируемого произведения, характеристикой специфики его стилистической организации. Комментарии обозначенного типа реализуют в тексте литературно-критической статьи различные функции. Прежде всего они могут служить как для ознакомления читателя с объектом анализа, так и для привлечения его внимания к деталям, которые показались критику наиболее важными, в некоторых случаях происходит подчеркнутая диалогизация дискурса, своего рода «приглашение» читателя к размышлению вместе с критиком. Апелляция к тексту-объекту, его комментирование участвует в реализации ключевых коммуникативных задач литературной критики, а именно как для раскрытия и сообщения смыслов, неуловимых для читателя-неспециалиста, так и для привлечения потенциальной аудитории анализируемого текста. Критик «выхватывает», приводит в качестве иллюстрации по его мнению значимые (или яркие – концептуально или стилистически) фрагменты анализируемого текста.
Отметим, это актуально и в случае негативной оценки, при этом в качестве примеров привлекаются неудачные с точки зрения критика детали текста или характеристики языковой личности, явления. Также одной из значимых функций апелляции к тексту-объекту является обоснование собственной критической оценки, аргументации.
В статье Д. Кузьмина «Поколение «Дебюта» или поколение «Транслита»?» видим следующее. Анализируя текст, критик приводит цитату и оформляет ее предложением-метаоператором: В частности, у соперника Чарыевой по «Литературрентгену» Андрея Черкасова тоже есть свой луг и свой маршрут:
Лист оцинкованный стальной,
Лист оцинкованный рифленый,
Летим со мной
Над всей страной –
Туда, где лист зеленый.
Далее следует комментарий, содержащий интерпретацию приведенного фрагмента:
Этот «луг зеленый» не скрывает своего фольклорного происхождения – тем контрастнее про-тивополагаясь «листу оцинкованному», залетевшему из какого-то прайс-листа металлопрокатного производства: постпозиция прилагательного в равной мере отличает эти два полярных друг другу стиля речи от литературной нормы. В зазоре между народно-поэтическим и промышленно-бюрократическим в аккурат помещается вся страна. Но это лишь автоэпиграф к стихотворению [7, с. 183].
Отдельным объектом комментирования может становиться какой-либо факт текста, например образ персонажа: Игнаха Сопронов – сквозной персонаж трилогии, крестьянин-бедняк, который в идеологической системе советской власти должен стать (и становится) одной из опор нового мира. Он носитель справедливости, обновления, живое воплощение народа, получившего свободу, землю и готового устраивать рай на земле [3].
Одной из специфических форм актуализации субъективно-модальной семантики можно признать включение в текст фрагментов, содержащих непосредственные личные переживания, воспоминания, впечатления автора, являющих собой комментарий событийного плана: Помню, в писательском доме Пицунды в начале восьмидесятых Чухонцев читал свою городскую повесть «Однофамилец»
(Наталья Иванова тоже должна это помнить). Дело было у Андрея Битова, который недавно закончил своего «Человека в пейзаже». Внезапное художественное сопряжение двух текстов было поразительным. Стихи и проза были родственны печальным смыслом: жизнь интеллигенции превращалась в пьяный фантом, в пустоту слов, в нравственную необязательность, в раздвоенность души [12].
В данном случае необходимо отметить значимость употребления глаголов речевой и мыслительной деятельности в форме первого лица, упоминание конкретных лиц, мест и событий, в том числе и непосредственное обращение.
Посредством этого происходит построение особенной дискурсивной тональности: усиление художественности, формирование интонации доверительности, что обусловливается тем, что в обосновании и объяснении собственного мнения критик ориентируется на установление своего рода эмоционального диалога с предполагаемым читателем.
Этот тип комментария также может употребляться в качестве своеобразного аргумента достоверности приводимых фактов, особенно в тех случаях, когда автор обозначает себя как непосредственного наблюдателя или участника событий: За последние годы я поработала в разных жюри разнообразных премий; одну сама придумала (премия Ивана Петровича Белкина – за повесть года) [4].
Отдельно нами рассматривается также комментарий рефлексивного типа, а именно авторский комментарий собственного высказывания. Это в первую очередь его непосредственная оценка (например, с точки зрения уместности), а также имитация хода рассуждения, характеристика процесса работы над собственным текстом: Приступая к этой статье, я вовсе не предполагала отклоняться от принятого критически-литературоведческого, с академическим налетом (насколько он может налететь на статью о литературе постмодерна), линейного и даже последовательного дискурса.... Попытавшись вжиться во фрагментарность и дискретность времени современных литературных произведений, я потеряла способность описывать, анализировать и интерпретировать целое и целостно.... В этой статье, неизбежно неполной и отрывочной, я буду говорить о слове и времени в их соотнесенности, в их – как все более и более выясняется – жесткой взаимообусловленности [6].
Полагаем, к данному типу комментария можно отнести также некоторые компоненты, используемые для организации речи, такие как нельзя сказать, что; то, о чем идет речь; надо заметить; проще говоря; как уже говорилось. Обозначенные структурные элементы могут употребляться с целью создания дополнительного прагматического эффекта: стилизации разговорности, непосредственности, что может служить, например, для смягчения категоричности высказывания. Следует также отметить употребление комментария-рефлексива в функции разъяснения цели того или иного речевого акта: Разбирая столь подробно стихи двух авторов <…> я стремился продемонстрировать прежде всего уровень постановки задачи [7].
Необходимо отметить, что здесь имеет место именно имитация фиксирования непосредственного момента процесса речемышления, так как письменный текст, в отличие от спонтанной речи, не является экспромтным, следовательно можно признать, что все компоненты его структуры неслучайны, употреблены с определенной целью и реализуют свою функцию.
Особый прагматический эффект имеет резкое переключение стилистического регистра: употребление в качестве комментария компонента, контрастирующего по общему стилистическому тону, в данном случае употребление конструкции даже не просто разговорного языка, но в известной мере относящейся к жаргону и имеющей ярко обозначенную пейоративную окраску: … авторов, по большей части никак не замеченных в экспертной работе и совершенно не отвечающих за базар до и после своего однократного, сколько угодно спонтанного решения [Там же, с. 188]. Это усиливает интонацию «раздраженности», имеющую место в предшествующем контексте, будто бы автор исчерпал все допустимые стилистически нейтральные возможности литературного стиля, что в определенной мере придает высказыванию звучание обвинительного пафоса.
Значимость данного типа компонентов текста обусловливается самой природой литературной критики, а именно ее изначальная «вторичность» по отношению к тексту. При этом текст может пониматься расширительно, в семиотическом ключе. Это можно отнести к тем случаям, когда объектом критического рассмотрения становится, например, языковая личность писателя, или гипертекст его произведений, или какое-либо явление, та или иная тенденция. Это свойство отмечал Р. Барт, определявший литературную критику как «слово о слове, это вторичный язык, или метаязык (как выражаются логики), который накладывается на язык первичный (язык-объект)» [1, с. 272]. Вместе с тем, в ходе лингвистического исследования дискурса литературной критики представляется методологически оправданным обособления, отграничения собственно метаязыкового комментария, который может быть как внешней, так и рефлексивной направленности.
Данный тип комментария определяется нами как частный случай реализации метаязыковой функции языка, а именно возможность исследования и описания языка в терминах самого языка [13, с. 564]. Семантика и функция подобного типа компонентов заключается в характеристике речевого произведения как языкового факта. Безусловно, наличие теоретико-литературной составляющей литературно-критического дискурса предполагает обращение к анализу стилистической формы, речевого воплощения авторского замысла. В данном случае мы можем наблюдать включение специфических метаязыковых компонентов, единиц терминологического описания: аграмматизм оборота; редкий архаизм; ритмический рисунок; звукопись; поверхностные свойства текста; …хореический автоэпиграф зарифмован, и даже с избытком <…> но в финале из всего этого выкристаллизовывается весьма своеобразный Другой стих: с сильной анапестической тенденцией, нарушаемой в непредсказуемых местах, и с рифмой, которая то ли есть, то ли нет [7, с. 185]. Наличие соответствующих операторов указывает на то, что объектом внимания критика становится языковая форма стихотворения, вместе с тем ее анализ позволяет совершить выход в смысловое пространство произведения. Происходит понимание «значения» текста через интерпретацию его «звучания».
Особого внимания также заслуживает, на наш взгляд, употребление метаязыкового комментария в качестве характеристики человека по его языковому поведению: ведущая <…> запомнившаяся главным образом причудливыми ударениями в фамилиях [Там же, 178].
Отметим, что обозначенные типы комментария не только не являются взаимоисключающими в пределах одного текста (что представляется очевидным), но им вступают в отношения сложного взаимодействия, и в конечном итоге служат реализации основной, текстообразующей интенции, а именно экспликации авторской оценки текста, идейной оценочной стратегии.
Список литературы Экспликация модуса мнения при посредстве различных типов комментария в литературной критике
- Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
- Журов А. Василий Белов: опыт разлома//Новый мир. 2013. №9. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/9/
- Иванова Н. Литературный дефолт//Знамя. 2004, № 10. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/.
- Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. Волгоград: Парадигма, 2010,
- Касаткина Т. Литература после конца времен//Новый мир. 2000, №6. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/6/.
- Кузьмин Д. Поколение «Дебюта» или поколение «Транслита»?//Новый мир, 2012. №3. С. 177-192.
- Лайонз, Дж. Лингвистическая семантика. Введение. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994.
- Орехова Е.Н. Субъективная модальность высказывания: форма, семантика, функции. М., 2011.
- Русская грамматика: в 2-х тт., Т. II. Синтаксис, М.: Наука, 1980,
- Сидоров Е. Поэзия как диагноз//Знамя. 2007. №12. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2007/12/.
- Слюсарева Н.А. Функции языка//Языкознание. Большой энциклопедический словарь/гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 564-565.
- Солганик Г.Я. Очерки модального синтаксиса. М.: Флинта: Наука, 2010