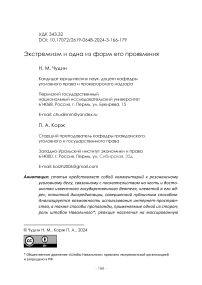Экстремизм и одна из форм его проявления
Автор: Чудин Н. М., Корж П. А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой комментарий к резонансному уголовному делу, связанному с посягательством на честь и достоинство известного государственного деятеля, клеветой в его адрес, попыткой дискредитации, совершенной публичным способом. Анализируется возможность использования интернет-пространства, а также способы пропаганды, применяемые одной из сторон; роль штабов Навального*; реакция населения на массированную пропагандистскую кампанию атакующей стороны к созданию героического образа преступников. Отмечается воздействие на членов экспертной комиссии, имевшее характер травли. В практической квалификации рассматривается конкретное содержание экстремистских мотивов применительно к фиксированному поведению преступной группы.
Экстремизм, личность преступника, хулиганство, проблемы квалификации, пропагандистская кампания, организованная группа, международный резонанс
Короткий адрес: https://sciup.org/147244121
IDR: 147244121 | УДК: 343.32 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-3-166-179
Текст научной статьи Экстремизм и одна из форм его проявления
Т еоретические и практические проблемы противодействия антигосудар‐ ственному экстремизму, сопряженному с посягательством на основы конституционного строя Российской Федерации, комплексно исследованы в достаточном количестве известных работ1. В данной статье рассматривается конкретная резонансная ситуация, представляющая определенный научный интерес как свидетельство «развития» явления.
Фабула дела состоит в следующем. Ш. совместно с Э. и несовершеннолет‐ ним В., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хули‐ ганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное по мотивам политической, идеологиче‐ ской вражды, а также вражды в отношении социальной группы лиц.
Итак, Ш. вступил с Э. и несовершеннолетним В. в предварительный сго‐ вор. Намереваясь придать противоправным действиям публичную огласку и общественный резонанс, они планировали привязать к столбу на центральной улице города Перми манекен, одетый в комбинезон с поперечными белыми и черными полосами (имитация тюремной одежды), с изображением полити‐ ческого деятеля, а также надписями «Лжец» и «Военный преступник», и раз‐ местить видеозапись своих действий в сети Интернет. Целью этой противо‐ правной деятельности являлось открытое доведение до неопределенного круга лиц сообщения, которое содержит резко отрицательную оценку полити‐ ческой деятельности, публичное осмеяние и явное неуважение к личности, наносит ущерб репутации, оскорбляет чувства неопределенного круга лиц, поддерживающих эту политическую деятельность, провоцирует очевидцев происходящего и аудитории, имеющей доступ к просмотру видеозаписи, к от‐ ветным действиям, создает определенный стереотип поведения в отношении формы протеста, которая ими избрана и демонстрирует негативный настрой в отношении действующей власти.
Для проведения противоправных действий Ш. и В. выбрали многолюд‐ ное общественное место (пересечение центральных улиц Перми – улицы Ле‐ нина и Комсомольского проспекта, напротив здания ЦУМа), которое имеет высокий транспортный и пешеходный трафик. Временем для совершения про‐ тивоправных действий избрали выходной день, тем самым желая привлечь к своей незаконной акции внимание наибольшего количества людей.
Учитывая, что с момента совершения деяния прошло значительное время, сегодня можно представить себе картину произошедшего в целом, не торопясь разобрать интересующие вопросы. И начать следует с обзора того, как социальные сети отреагировали на освобождение фигурантов дела. Зна‐ чение соцсетей в этой ситуации неоспоримо, ведь именно в них была органи‐ зована «победоносная» кампания, которой официальные органы не смогли ничего противопоставить.
Пермский краевой суд отменил активисту Ш. реальный срок. В августе Ленинский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 213 Уголов‐ ного кодекса Российской Федерации2. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Прокуратура была недовольна приговором и требовала ужесточить наказание. Адвокат осужденного настаивал на отмене приговора вследствие отсутствия состава преступления.
Перед оглашением приговора юрист С. обратил внимание на два юри‐ дических аспекта дела «куклы государственного деятеля» – «один из области материального права, другой – процессуального»:
«Первый: если грубое нарушение общественного порядка (в гипертрофи‐ рованном его понимании) в рамках вмененного фигурантам квалифицирован‐ ного состава хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) заключалось в действиях, направ‐ ленных на оскорбление представителя власти – государственного деятеля, то по правилам разрешения конкуренции предпочтение должно отдаваться специ‐ альной норме статьи 319 УК РФ “Оскорбление представителя власти”.
Второй: коль скоро университет не является экспертным учреждением, то и процессуальные обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 199 УПК РФ, его представителями исполняться не должны. Это – компетенция следователя.
В обычных условиях установления судом любого из указанных обстоя‐ тельств должно быть достаточно для отмены обвинительного приговора... Надеюсь, что так и будет, а общество найдет в себе силы отвергнуть неспра‐ ведливость!»3
Полагаю, что заявление С. является провокационным и юридически не‐ грамотным. В статье 91 Конституции РФ4 говорится: «Президент Российской Фе‐ дерации обладает неприкосновенностью». Это, безусловно, означает, что ему гарантирована защита в том числе от уголовного, административного преследо‐ вания, иных ограничений его личной свободы. Такова общемировая практика, высший уровень иммунитета. И необходимо соблюдать конституционные по‐ ложения, обратиться к законодательству, определяющему понятие, сущность и виды иммунитета в уголовном судопроизводстве.
Также заявление С. свидетельствует о незнании положений постановле‐ ния Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экс‐ пертизе по уголовным делам». В соответствии с ним «к иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосу‐ дарственных судебно‐экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно‐экспертных учреждениях», в том числе сотрудники научно‐исследо‐ вательского учреждения, образовательной и иной организации, обладающие специальными знаниями и имеющие в распоряжении необходимое эксперт‐ ное оборудование.
Постановлением следователя от 21 ноября 2019 года была назначена психолого‐лингвистическая судебная экспертиза, а постановлением от 11 фев‐ раля 2020 года – дополнительная психолого‐лингвистическая и юридическая судебная экспертиза, производство которых было поручено специалистам Пермского государственного национального исследовательского универси‐ тета. Отсутствие в наименовании постановления следователя от 21 ноября 2019 года ссылки на необходимость привлечения юриста и проведения юри‐ дической судебной экспертизы не свидетельствует о недопустимости заклю‐ чения комплексной психолого‐лингвистической и юридической судебной экспертизы, поскольку ответы на поставленные следователем в первом поста‐ новлении вопросы требовали привлечения эксперта‐юриста. Кроме того, ста‐ тья 195 Уголовно‐процессуального кодекса РФ5, предусматривающая порядок назначения судебной экспертизы, не содержит требований об указании класса, рода, вида и подвида назначаемой экспертизы.
Выводы юриста и иных экспертов для суда обязательными не являются и оцениваются им в совокупности с иными доказательствами по уголовному делу по правилам, предусмотренным статьями 87 и 88 УПК РФ. Включение в состав экспертов юриста Ч. не может быть безусловным основанием для ис‐ ключения экспертиз из перечня доказательств. Юридическая оценка действий подсудимых, изложенная в экспертизах, судом во внимание не принимается, поскольку указанная оценка является исключительной компетенцией суда, однако выводы экспертов в области психологии и филологии требуют юриди‐ ческих знаний, в связи с чем привлечение при производстве экспертиз юриста правомерно.
Не успокоившись на попытках опорочить, скомпрометировать эксперт‐ ную комиссию, С. перешел к нападкам на университет. Приведем фрагменты статьи, опубликованной на сайте информагентства URA.RU6:
“Среди преподавателей ходят слухи, что в ближайшие год‐два начнутся массовые увольнения. На вуз давят силовики. Им не нравится, что в универси‐ тете среди педагогов зреют протестные настроения, которые транслируются студентам”, – рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что смена устава и рек‐ тора вуза является свидетельством того, что процесс запущен.
“Не сомневаюсь, что сама идея уменьшить количество ‘инакомыслящих’ в стенах университета кому‐то из властей предержащих приходила в голову не раз, но ее реализация будет иметь весьма отличный от запланированного эф‐ фект, возможно прямо противоположный”», – рассказал URA.RU юрист С., по‐ яснив, что «подобные процессы противоречат традициям вуза, где сейчас нет избытка квалифицированных специалистов».
В то же время в социальных сетях была развернута широкая кампания по дискредитации членов экспертной комиссии. Чего стоит заявление с требо‐ ванием уволить из университета всех участников экспертной группы под угро‐ зой международной изоляции учебного заведения, широко распространявше‐ еся в Сети и в уличных пикетах. О его существовании рассматриваемая группа не знала вообще, о чем и сообщила в судебном заседании. Координаторы со стороны Навального предусмотрели этот вариант. Подобные заявления были в Сети постоянными.
Вот первое: «Позор вам, (Ф.И.О.), позор и презрение. Читая между строк, не забывайте, что облаченное в псевдоакадемическую форму прислужива‐ ние и ассистирование преступлениям, лжи, демагогии и произволу режима – это огромное клеймо на всю вашу жизнь. Глядя на такие “заключения” “экс‐ пертов” типа вас, не приходится удивляться низкому качеству правосудия, следствия, как и в целом юридической культуры в нашей стране. Если у обще‐ ства такие “учителя”, то и его юридическая культура будет деградировать». Звучали, кроме того, угрозы физической расправы.
Такое уведомление получили все специалисты экспертной группы. Оче‐ видна отличная осведомленность инициаторов акции по поводу адресов элек‐ тронной почты и в ряде случаев номеров сотовых телефонов указанных лиц. Кроме того, текст полностью содержит состав статьи 282 Уголовного кодекса РФ7. Однако соответствующей реакции со стороны судебных органов и пред‐ ставителей прокуратуры не последовало. Указанный документ был широко распространен через Интернет.
Примерно в это же время в той же Сети был опубликован документ под названием «Госдеп США нашел нарушения прав человека на Среднем Урале и в Прикамье»8. В нем сообщалось, что «Государственный департамент США опубликовал доклады о соблюдении прав человека в странах мира в 2019 году. В отчете, посвященном положению дел в России, 74 страницы; он содер‐ жит упоминания как федеральных, так и региональных событий, которые оце‐ ниваются как нарушения прав человека». В тексте отмечается и рассматрива‐ емый нами случай как доказательство «в высокой степени централизованной и авторитарной политической системы».
Группа активистов направила в ПГНИУ письмо с требованием уволить сотрудников, подготовивших экспертизу по делу «куклы государственного деятеля». Текст разместил у себя в соцсетях общественник Г. «Если универси‐ тет не отреагирует, то зарубежным партнерам университета будет направлена информация о толерантности вуза к политическим репрессиям», – заявлено в письме. Комментаторы Г. в соцсетях, в том числе доцент ВШЭ К., раскрити‐ ковали обращение, указав на допущенные грамматические ошибки: «Если наши друзья разошлют партнерам университета английские письма, написан‐ ные в таких же выражениях и с таким же количеством ошибок, те тут же будут отправлены в спам».
Координатор штаба Навального в Перми перед процессом написал сле‐ дующее: «Главным удивлением в данном деле стала работа даже не след‐ ственных органов, которые готовы делать экспертизы, пока не получат нужный результат. Удивила меня работа прокуратуры. Они не подвергают сомнению любые выводы следствия, повторяют даже самые абсурдные вещи и еще настаивают на ужесточении приговора. Например, вывод об устойчивости преступной группы и совместной договоренности следствие и прокуратура де‐ лают на основании звонка Ш. В., где он говорит, что у него такая классная идея, нужно встретиться и переговорить о ней. На что В., по словам его адвоката, ответил, что ему некогда. Прокуратура говорит о сплоченности преступной группы, желающей реализации преступного умысла, как о неоспоримом факте». (Отметим, что высший уровень организованности группы был доказан в судебном порядке.)
Политолог К. перед судом написал: «Не знаю, какой там у суда полити‐ ческий выбор, но моральный выбор перед судьями точно стоит. Выступление подсудимых очевидно судьям показало, что перед ними никакие не злодеи, не моральные уроды, не уголовники и даже не “преступники” в бытовом смысле слова. Перед ними сознательные, рациональные, в чем‐то умные, в чем‐то наивные, ответственные молодые граждане. Да, со своими политиче‐ скими и оппозиционными взглядами, но это не преступление». А после суда К. отметил, что замена реального срока условным – «решение чисто полити‐ ческое, даже политтехнологическое: ни вашим, ни нашим, все требования со всех сторон отклонить. Главное – силу всех доказательств обвинения сохра‐ нить, состав преступления сохранить, но суровость приговора снизить». Поли‐ толог считает, что суд огласил следующее мнение: «...акцию и все последую‐ щие подобные акции необходимо рассматривать как преступление, как хулиганство, направленное не против изображаемого лица, а против его сто‐ ронников. За их оскорбление, за оскорбление некой “социальной группы сторонников Путина” должно следовать наказание, пусть и условное».
В основном в соцсетях встречаются восторженные высказывания о за‐ мене реального срока условным. Так, активист Г. написал, что «у пермской гражданской тусовки сегодня светлый день – Ш. получил условный срок!» Этот восторг разделяет и политолог Б.: «Кажется, из всех реалистичных вариантов это – победа. Ш. на свободе с условным сроком». «Очень рада за Сашу!» — написала бывший координатор штаба Навального в Перми В.
Но в общем хоре ликования звучали и более осторожные голоса. Пред‐ седатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал» (ликвидиро‐ вано) Л. оставил комментарий под постом юриста П. По его словам, после при‐ говора суда в стране одним политзаключенным станет меньше, а это прежде всего «победа адвокатов и общественности»: «Плохо только то, что двое фи‐ гурантов все равно признаны виновными по уголовному делу и осуждены. Это минимальное, но наказание, на что согласилось российское судопроизвод‐ ство. Значит, надо будет тоже обжаловать в ЕСПЧ».
Депутат Пермской городской думы А. обратила внимание, что после данного дела «ангажированные эксперты могут найти в действиях любого из нас признаки политической ненависти и вражды»: «Определение экспертизы “негативное психолого‐педагогическое воздействие” на молодежь или созда‐ ние “условия для усвоения отрицательных шаблонов поведения”. Что такое шаблоны поведения? И какие условия должны быть созданы для их усвоения? Это к вопросу о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. Еще как освобождает, если человек без специальных знаний в области линг‐ вистики и психологии не может определить масштаб противоправности и об‐ щественного вреда. Эксперты придумали за Ш. его мотивы и цели. Без этого невозможно было вынести приговор». По ее словам, за время судебного процесса «не случилось ни одного внятного высказывания против этой акции со стороны тех, кто согласен с действиями режима и поддерживает прези‐ дента»: «Беспомощные показания на суде “пострадавших” молодогвардейцев и силовиков сложно выдать за искреннее возмущение. Хорошо, что реальный срок отменили. Но и состава преступления здесь нет совсем».
Организация «Апология протеста», чьи юристы защищали Ш., В. и Э., уже заявила, что будет добиваться для осужденных активистов оправдатель‐ ного приговора: «Сегодня Ш. будет на свободе. Наши адвокаты – огромные молодцы. Но условные сроки не означают, что нарушения прав человека не было. Мы продолжим работу по делу: как в российских судах, так и в ЕСПЧ»10.
Хорошо известно, что экстремизм приобретает повышенную обще‐ ственную опасность, квалифицирующие его элементы появляются во всё большем количестве статей УК РФ. Одному из авторов данной статьи при‐ шлась столкнуться с необходимостью решения и оценки ряда вопросов как на следствии, так и в суде.
Адвокаты видели только административное нарушение; другая позиция выражала наличие части 2 статьи 213 УК РФ. Однако при изучении материала следует принять во внимание мнение Верховного Суда РФ о том, что «при ре‐ шении вопроса о наличии в действиях грубого нарушения общественного по‐ рядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, продолжи‐ тельность и другие обстоятельства»11.
Присутствует категория «общественный порядок». По содержанию объ‐ ективной стороны можно констатировать следующие элементы. Способ – де‐ монстрация манекена, отождествляемого с конкретным политическим деяте‐ лем. Способ, безусловно, оскорбительный, унижающий человеческое до‐ стоинство, носящий провокационный характер. Прослеживается устойчивое желание участников происшествия повлиять на общественное мнение путем создания скандально‐лживой ситуации, привлекающей внимание людей в ме‐ стах массового скопления в первую очередь неординарностью исполнения. Таким образом, квалифицирующий признак – грубое нарушение обществен‐ ного порядка – подтверждается анализом места, времени, интенсивностью,
ЧУДИН Н. М., КОРЖ П. А. _________________________________________________________ продолжительностью, фотосъемкой и другими обстоятельствами, отражен‐ ными в уголовном деле. Немаловажен и тот факт, что при задержании указан‐ ных лиц гражданами, присутствовавшими на месте происшествия, первые оказывали сопротивление. Заявление одного из задержанных В., что они так выразили свою гражданскую позицию, несостоятельно, поскольку для такого выражения существуют правовые границы12.
Проводя анализ статьи 213 УК РФ, в происшедшем можно усмотреть сле‐ дующие квалификационные признаки: мотив политической вражды (ч. 1, п. «б») и деяние, совершенное «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» (ч. 2).
Об устойчивости преступной установки свидетельствует также коллек‐ тивный отказ от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции РФ. Если по‐ смотреть с позиции оценки субъективной стороны, то получается следующая картина. Учитывая юридическую подготовленность данных субъектов – право‐ нарушителей (имеется в виду знание статьи 51 Конституции РФ), им должно было быть известно и содержание статьи 25 УК РФ. Об этом свидетельствуют материалы первого тома уголовного дела. Следовательно, в случившемся наличествовал прямой умысел.
Политическая ненависть (вражда) связана с неприятием чуждых по‐ литических взглядов на проведение государственной внешней политики и деятельности по воплощению этих взглядов в жизнь в виде участия в ра‐ боте политической партии или общественного объединения, в выборах и референдуме в качестве избирателя (участника референдума) или канди‐ дата, в работе органов государственной власти и органов самоуправления и т.д. Не исключается возможность совершения преступления по этому мо‐ тиву в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. «Уголовно‐ правовое различие мотива ненависти и мотива вражды: действующий по мотиву ненависти своими преступными действиями стремится к уничтоже‐ нию чуждого ему, тогда как действующий по мотиву вражды лишь выказы‐ вает свое негативное отношение к чуждому, не стремясь при этом его уни‐ чтожить. При этом преступному проявлению ненависти и вражды может предшествовать затянувшийся конфликт между виновным и потерпевшей
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ стороной (как данным потерпевшим, так и той общностью, к которой он принадлежит)»13.
В нашем случае фигуранты дела являются низшим звеном, исполните‐ лями чьих‐то заказов, поэтому их деятельность можно рассматривать только в рамках статьи 213 УК РФ. Хулиганский мотив – когда в основе хулиганских побуждений лежит стремление в вызывающей форме проявить себя, выра‐ зить нарочитое, показное пренебрежение к обществу, другим людям, зако‐ нам и правилам общежития. Эта троица считает, что совершила «героический поступок», получила известность и ореол, который в рамках существующего уголовного законодательства расценивается как преступление.
Один из авторов данной статьи, выступая в качестве эксперта по дан‐ ному делу, имел длительную беседу с героями материала. Что можно сказать об их ролевых характеристиках?
Фактическим руководителем мероприятия являлся У., руководитель штаба А. Навального в регионе. Формальный глава мероприятия – Ш., 1998 года рождения, гражданин Российской Федерации, житель Пермского края, образование среднее специальное.
В заключении комиссии экспертов утверждается, что Ш. хроническим психическим расстройством не страдает, у него наблюдается заострение черт характера смешанного типа. Об этом свидетельствуют присущие ему на про‐ тяжении всей жизни повышенная стеснительность, обостренное чувство спра‐ ведливости, демонстративность, повышенная чувствительность к нарушению своих прав и интересов с их упорным отстаиванием, излишняя категоричность в оценках и суждениях, что полностью подтверждается результатами психи‐ атрического обследования. Вместе с тем степень указанных личностных осо‐ бенностей не столь значительна, у него нет каких‐либо нарушений памяти и интеллекта, сохранены критические и прогностические способности. То есть этот человек возомнил себя политическим деятелем. Остальные – ведомые, вообще не разбирающиеся в ситуации, в которой оказались14.
Как известно, структуры Навального признаны экстремистскими. Они за‐ нимались в России формированием условий для дестабилизации социальной и общественно‐политической ситуации, фактически выступали за изменение основ конституционного строя. Сегодня деятельность штабов запрещена, сами штабы закрыты. Они не имеют права создавать информационные ресурсы, вербовать новых участников, баллотироваться во властные структуры.
Таким образом, данное уголовное дело наводит на следующие выводы:
-
1. Осталась недооцененной возможность использования массового де‐ структивного наступательного воздействия, хорошо продуманного и органи‐ зованного (через СМИ). Обширная аудитория черпала информацию, сидя у своих компьютеров, только из одного источника. Реальная правовая осве‐ домленность оказалась невозможной. Контрпропаганда отсутствовала. Этот вопрос следует серьезно продумать, так как мы не застрахованы от подобного рода эксцессов в будущем.
-
2. Серьезного внимания заслуживает положение членов экспертной комиссии, подвергшихся ожесточенной травле. Бездействие правоохрани‐ тельных органов в сложившейся ситуации не находит объяснений. По сути, это стимуляция преступников, которая порождает у них чувство безнаказанности и уверенности в своей правоте.
-
3. Один из авторов статьи Н. М. Чудин был привлечен к процессу в каче‐ стве эксперта и глубоко погрузился в тему. В итоге при осмыслении данного уголовного дела оба автора пришли к выводу о необходимости грамотного понимания и объяснения мотивов, то есть единообразной юридической оценки правонарушения.
Такое же замечание следует сделать в адрес Пермского краевого суда: замена Ш. реального наказания на условное (два года лишения свободы условно) – это, по существу, поощрение данной разновидности преступного поведения.
Список литературы Экстремизм и одна из форм его проявления
- Абызов Р. М. О понятии и причинах экстремизма в российском обществе // Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы: cб. науч. cт. / под ред. А. И. Долговой. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2010. С. 24–36.
- Некоторые особенности производства по делам, связанным с проявлением ксенофобии / отв. ред. Л. А. Воскобитова. М.: Американская ассоциация юристов при участии ООО «Вариант»», 2011.
- Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказывания: учеб. пособие / П. В. Агапов, С. В. Борисов, Д. В. Вагурин и др.; под. ред. В. В. Меркурьева. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013.
- Чуганов Е. Г. Экстремизм: проблемы уголовной политики // Экстремизм и другие криминальные явления: сб. ст. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2008. С. 5–11.
- Чудин Н. М. Комментарий к конкретному уголовному делу // VII Педагогические чтения, посвящ. памяти проф. С. И. Злобина: сб. материалов: в 3 т. Т. 1. Пермь: Перм. ин‐т ФСИН России, 2021. С. 145–149.
- Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: метод. пособие / под ред. А. И. Долговой. М.: [б. и.], 2009.