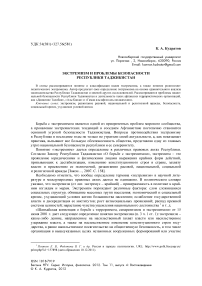Экстремизм и проблемы безопасности Республики Таджикистан
Автор: Кудратов Комрон Абдунабиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятие и классификация видов экстремизма, а также понятие религиозно-политического экстремизма. Автор предлагает свое определение экстремизма на основе сравнительного анализа законодательства Республики Таджикистан и мнений других исследователей. Рассматриваются проблемы национальной безопасности Республики Таджикистан и деятельность таких афганских террористических организаций, как «Движение Талибан», «Аль-Каида» и «Гамаа аль-афган аль-моджахедин».
Экстремизм, разжигание расовой, национальной и религиозной вражды, безопасность, социальный кризис, ухудшение условий жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/14737789
IDR: 14737789 | УДК: 54(581)+327.56(581)
Текст научной статьи Экстремизм и проблемы безопасности Республики Таджикистан
Борьба с экстремизмом является одной из приоритетных проблем мирового сообщества, а проявление экстремистских тенденций в соседнем Афганистане постепенно становится основной угрозой безопасности Таджикистана. Вопросы противодействия экстремизму в Республике в последние годы не только не утратили своей актуальности, а, как показывает практика, вызывают все большую обеспокоенность общества, представляя одну из главных угроз национальной безопасности республики и ее суверенитету.
Понятию «экстремизм» дается определение в различных правовых актах Республики. Согласно Закону Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом», экстремизм – это проявление юридическими и физическими лицами выражения крайних форм действий, призывающих к дестабилизации, изменению конституционного строя в стране, захвату власти и присвоению ее полномочий, разжиганию расовой, национальной, социальной и религиозной вражды [Закон…, 2007. С. 158].
Необходимо отметить, что вообще определение термина «экстремизм» в научной литературе и международных правовых актах дается не одинаково. В политическом словаре указано, что экстремизм (от лат. экстремус – крайний) – приверженность в политике к крайним взглядам и мерам. Экстремизм порождают различные факторы: слом сложившихся социальных структур; обнищание массовых групп населения; экономический и социальный кризис, ухудшающий условия жизни большинства населения; ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов; рост антисоциальных проявлений; распад прежней системы ценностей; нарастание чувства ущемления национального достоинства 1 и т. д.
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. дает следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1): экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон 2.
Таким образом, в понятие «экстремизм» включается также публичное оправдание терроризма, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
Здесь необходимо отметить признаки часто встречающейся терминологической путаницы, которая происходит в результате смешения терминов и понятий «экстремизм» и «терроризм». С одной стороны, действительно, важнейшая роль в достижении собственных целей экстремистами отводится террористической деятельности. В этом плане термины «экстремизм» и «терроризм» чаще всего употребляются для характеристики действий, имеющих деструктивную антигосударственную, антиобщественную и античеловеческую направленность.
Термин «терроризм» происходит от латинского слова «террор», означающего «страх, ужас». Им обозначаются «насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения» [Ожегов, 1978. С. 731; Кожушко, 2000. С. 10].
Поскольку экстремизм означает приверженность к крайним формам разрешения социальных конфликтов, он допускает и обосновывает необходимость применения насильственных методов, в том числе – осуществление различных актов терроризма. Существует мнение, что терроризм является крайней и наиболее опасной формой экстремизма, что эти понятия соотносятся как видовое и родовое [Фридинский, 2004. С. 19; Устинов, 2002. С. 35; Долгова, 2008. С. 22], а некоторые ученые даже выделяют терроризм экстремистов [Васильченко, Швыркин, 2008. С. 35]. Именно так понимается соотношение между экстремизмом и терроризмом в международном праве, в котором о терроризме говорится как об одном из проявлений экстремизма.
В документе «О Программе государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года», принятом Советом глав государств стран СНГ от 21 июня 2000 г., также на международном уровне было признано, что терроризм является одним из проявлений экстремизма.
Вместе с тем, несмотря на весьма тесную взаимосвязь явлений экстремизма и терроризма, они не являются синонимами.
По нашему мнению, различие между экстремизмом и терроризмом наиболее четко определил российский эксперт Г. И. Мирский: «Экстремизм и терроризм – явления достаточно близкие, хотя автоматической связи между ними нет: если видно, что всякий террорист – это экстремист, то неправильно было бы полагать, что каждый экстремист – террорист. Разумеется, экстремизм как определенное умонастроение логически ведет к оправданию террора, но вовсе не обязательно доходит до этой точки» [1988. С. 68].
В целом, терроризм произрастает из экстремизма, и, по существу, терроризм является частью экстремизма, так как он вобрал в себя наиболее жесткие методы достижения политических целей. Террористы широко практикуют как физическое устранение государственных, политических, общественных деятелей, так и убийства рядовых граждан, уничтожение различных материальных объектов и т. д.
Исследователи различают несколько видов экстремизма, из которых наиболее характерными являются политический и религиозный .
На безопасность в Республике Таджикистан, а также во всем Центрально-Азиатском регионе в основном влияет ситуация, сложившаяся в течение последних тридцати лет в соседнем Афганистане. Здесь мы наблюдаем пересечение экономических, политических, идеологических и военно-стратегических интересов таких держав, как США и Китай, а также некоторых стран Европы, Ближнего и Среднего Востока, прежде всего, Турции, Ирана и Пакистана.
В Таджикистане система обеспечения борьбы с терроризмом и экстремизмом создается и выстраивается в соответствии с Конституцией страны, Уголовным кодексом Республики, Законом «О борьбе с терроризмом», Законом «О борьбе с экстремизмом», Законом «О милиции». Антитеррористические мероприятия осуществляются в рамках положений Концепции национальной безопасности РТ, актами Президента и Правительства, а также международными договорами.
В документе «Единая концепция Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом» говорится, что в силу своего геополитического и геоэкономического положения страна все еще остается объектом посягательств со стороны международного терроризма и экстремизма. В этом плане серьезную угрозу безопасности представляет, как говорилось выше, сложная военно-политическая ситуация в Афганистане. На его территории действует ряд религиозно-экстремистских центров и организаций, лагерей террористической и диверсионной подготовки. Оттуда не прекращается поток в Таджикистан нелегальной миграции, контрабанды наркотиков и оружия 3 . На ситуацию в сфере безопасности в РТ влияет деятельность таких афганских экстремистских организаций, как «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Гамаа аль-афган аль-моджахедин» и пр., которые реализуют свои цели, опираясь на экстремистскую интерпретацию исламской религии. Власти Таджикистана ведут постоянную борьбу с любыми проявлениями исламского радикализма. Кроме того, в Душанбе бдительно следят за деятельностью немусульманских сект и различного рода миссионеров. В последнее время объектом самого пристального внимания со стороны властей стала также немногочисленная, но активная община Свидетелей Иеговы в Таджикистане 4.
Многие исследователи и аналитики выражают особый интерес к вопросу о том, является ли радикализация настроений определенной части населения РТ внутренним продуктом или же у нее есть региональные связи с экстремистскими организациями из Афганистана и Пакистана [Сидоров, 2007. С. 16]. Имеются смежные вопросы: существует ли тенденция «реисламизации» после ухода советской империи из региона? Стали ли пять государств региона площадкой для работы террористических организаций извне? Каково влияние транснациональной организованной преступности, специализирующейся на перевозке наркотиков из Афганистана? Угрожает ли безопасности Запада радикализация Центральной Азии? [Абишева, Шаймергенов, 2006. С. 48] и т. д. Данные вопросы, безусловно, касаются и Таджикистана.
Сегодня, отвечая на поставленные выше вопросы, можно констатировать наличие достаточно серьезных долгосрочных угроз национальной безопасности государства, среди которых религиозно-политический экстремизм занимает одно из ведущих мест.
В контексте исследования этой проблемы необходимо, прежде всего, определиться с понятием данного вида экстремизма. Среди исследователей, занимающихся изучением этого явления, имеются определенные разногласия относительно правомерности, научной корректности применения ряда ключевых понятий, в той или иной степени сопряженных с упомянутой проблемой. В значительной степени это обусловлено тем, что многие, ставшие уже традиционными, понятия зачастую несут разное смысловое содержание и, соответственно, нуждаются в переосмыслении и уточнении. В частности, является очевидным необходимость уточнения такого наиболее спорного и одновременно наиболее часто используемого понятия, как «религиозный экстремизм» [Тукумов, 2004. С. 108].
В целом, можно выделить два основных подхода в определении религиозного экстремизма.
Кто-то определяет религиозный экстремизм как специфичную реакцию религиозного сознания на внутри- и межконфессиональные кризисные явления и попытку преодолеть этот кризис на нерелигиозных путях.
Другие считают этот феномен политическим вызовом с четким антиобщественным, антигосударственным содержанием. Сторонники данной точки зрения убеждены, что в подавляющем большинстве случаев конфликты на религиозной основе имеют, в первую очередь, политическую основу и могут быть определены как политические, а не религиозные. Религия выступает в этих случаях в качестве подчиненного элемента. Так, к примеру, даже допуская правомерность применения термина «религиозный экстремизм», известный российский исламовед Л. Сюкияйнен соглашается с мнением, что религиозный экстремизм напрямую или опосредованно несет в себе политическую составляющую. Он полагает, что «в любом случае религиозный экстремизм допустимо рассматривать в качестве самостоятельного – либо наряду с политическим, либо как его форму (проявление)» [2002. С. 23].
Близкую позицию занимает другой российский исследователь И. Н. Яблоков. Он считает, что «говоря о том, что религиозные индивиды, группы и институты могут вести экономическую, политическую, просветительскую деятельность и соответственно этому вопросу вступать в экономические, политические, просветительские и т. п. отношения, вряд ли целесообразно безоговорочно объявлять такую деятельность и такие объединения «религиозными» [Яблоков, 1979. С. 106].
Относительная стабилизация внутриполитической ситуации в Таджикистане, безусловно, положительно повлияла на снижение уровня экстремистских тенденций в этой стране. Вместе с тем в отдельных регионах страны отмечаются проявления религиозного экстремизма, а именно: в Раштской долине и Согдийской области, в некоторых городах и районах Хатлонской области, в Душанбе, Рудаки, Вахдатском и Гиссарском районах.
Оценивая перспективы распространения религиозно-политического экстремизма в Таджикистане, следует учесть и другой факт. В стране отмечается довольно сложная социально-экономическая ситуация. Уровень стабильности политической системы низок, а наличие неконтролируемых официальным Душанбе территорий и сохранение существенного внешнего влияния на ситуацию в стране повышает потенциал активности радикальной идеологии [Тукумов, 2004. С. 109].
По мнению президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона, целью религиозных экстремистов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, является изменение насильственным путем конституционного строя страны. Президент, напомнив, что мечети являются местом для проведения исключительно намазов (молитв), отметил: «Однако сегодня мы наблюдаем, что некоторые мечети являются трибуной для продвижения экстремистской идеологии и местом для вербовки молодежи в экстремистские ряды. Не нужно забывать, что раштские события начались именно с подобных мечетей» 5.
Как известно, в сентябре 2010 г. боевики-исламисты атаковали колонну правительственных войск в Раштской долине, которые были направлены для преследования боевиков, бежавших в августе из душанбинского СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) и, как считалось, укрывшихся в долине. В результате нападения погибли от 25 до 40 военнослужащих. Это стало первым за десять лет серьезным столкновением правительственных войск с террористами и заставило наблюдателей заговорить о скрытой нестабильности в стране, особенно с учетом ситуации в соседнем Афганистане.
В соответствии с Законом РТ «О свободе совести и религиозных объединениях», надзор за религиозной деятельностью передан от Министерства культуры Комитету по делам религии при правительстве Республики Таджикистан. Для подавления экстремистских исламских выступлений власти используют уголовное преследование. В январе 2011 г. в Душанбе по делу о разжигании религиозной вражды были осуждены лидер запрещенных салафитов имам Сироджиддин Абдурахмонов (Мулло Сироджиддин) и шесть его последователей. Имам осужден на семь лет, а его сторонники – на сроки от трех до шести лет лишения свободы.
В апреле 2009 г. в разных городах было арестовано около ста членов запрещенной организации «Джамаати Таблиг» («Таблиги джамаат»). Верховным судом 56 из них были осуждены по 307-й статье УК РТ, 23 подсудимых осуждены на тюремные сроки от трех до шести лет, остальные оштрафованы на астрономические для среднего таджика суммы от 25 до 50 тыс. сомони (порядка 5–10 тыс. долл. США). В мае Хатлонский областной суд приговорил по той же статье еще 36 чел. к аналогичным штрафам и срокам лишения свободы 6 . В мае же ГКНБ возобновил следствие в отношении 17 иеговистов из Ходжента, арестованных в сентябре 2009 г. Однако после их обращения в Генеральную прокуратуру дело было приостановлено 7.
Из содержания ст. 3 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» [2003. С. 2] следует, что экстремистская деятельность подобных организаций заключается в планировании, организации, подготовке и совершении действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности страны. Статьи этого закона также предусматривают наказание за подрыв безопасности государства; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, и т. д.
На наш взгляд, деятельность этих организаций может влиять на другие виды общественных и государственных интересов. Например, публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; и т.д.
Сегодня в Таджикистане отмечается ряд негативных тенденций долгосрочного характера.
Во-первых, судя по показателям социально-экономического развития, Таджикистан прочно занял место одной из наиболее бедных стран мирового сообщества.
Во-вторых, дестабилизация ситуации в Таджикистане, несомненно, усилит позиции радикальных исламских организаций по всему региону, значительно увеличит миграционные процессы и, наконец, нарушит режим относительной изоляции зоны афганского конфликта.
В-третьих, опираясь на принятый в 2009 г. новый закон о свободе совести, государство продолжило подавление экстремистских религиозных групп. Свобода религиозного вероисповедания в стране ограничивается уже в течение многих лет. Под предлогом борьбы с терроризмом запрещена деятельность нескольких исламских организаций, не прибегающих к насилию и не пропагандирующих его. Под запретом остается и ряд христианских течений, включая Свидетелей Иеговы, и незарегистрированные религиозные организации. По новому закону, власти регламентируют самые различные стороны религиозной жизни: место расположения и количество новых мечетей, места мусульманских проповедей, содержание религиозной литературы (в том числе, ввозимой в страну) и получение религиозного образования для детей. Религиозные общины подлежат регистрации и должны получать разрешение правительства на институциональные контакты с зарубежными единоверцами.
Для распространения влияния «Движения Талибан» и других экстремистско-религиозных организаций в Таджикистане имеются, на наш взгляд, как благоприятствующие моменты, так и препятствующие факторы. К последним относится, прежде всего, наличие легальной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Ее деятельность позволяет направлять социальное недовольство в законное политическое русло и тем самым снижать общественное влияние таких радикальных исламистских организаций, как «Движение Талибан», «Хизб-ут-Тахрир», Исламское движение Узбекистана (ИДУ) и пр. С другой стороны, как отмечает С. Олимова [2001. С. 64], «региональный характер ПИВТ препятствует ее популярности в тех областях Таджикистана, которые в гражданской войне поддерживали ее противников».
EXTREMISM AND SECURITY PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN