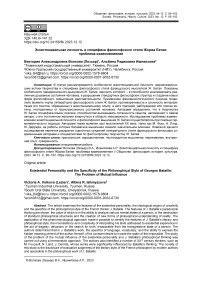Экзистенциальная личность и специфика философского стиля Жоржа Батая: проблема взаимовлияния
Автор: Волкова Лезьер В.А., Ишниязова А.Р.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности экзистенциальной личности, мировоззренческие истоки творчества и специфика философского стиля французского мыслителя Ж. Батая. Показаны особенности парадоксального мышления Ж. Батая, ценность которого - в способности анализировать различные душевные состояния человека, в разрушении стандартных философских структур и создании новых форм философского осмысления действительности. Применение феноменологического подхода позволило выявить черты литературно-философского стиля Ж. Батая, противоречивость и сложность интерпретации его текстов, обращенных к экзистенциальному опыту, в акте трагедии, заблуждений или поиска истины, неотделимых от трансгрессивного состояния человека. Авторами определено, что в творчестве Ж. Батая специфика языка, лексики, способностей высказывать потаенность смысла, напоминают о самом авторе, о его постоянном желании вторгнуться в область невозможного. Исследование проблемы взаимовлияния экзистенциальной личности и философского мышления Ж. Батая осуществлялось при помощи герменевтического подхода. Авторами также выявлен круг мыслителей XX века, таких как М. Фуко, Н. Лэнд, Ж. Деррида, на работы которых батаевское мышление оказало значительное влияние. Новизной данного исследования является раскрытие оценочных суждений литературного стиля французского философа современными авторами и специалистами по философскому творчеству Ж. Батая.
Трансгрессия, иррационализм, нестандартное мышление, переживание, внутренний опыт, суверенность
Короткий адрес: https://sciup.org/149144759
IDR: 149144759 | УДК: 140.8+141.32 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.12
Текст научной статьи Экзистенциальная личность и специфика философского стиля Жоржа Батая: проблема взаимовлияния
,
,
Философия сегодня все чаще обращается к проблеме нравственного кризиса человечества. Попытки разрешить сложнейшие вопросы человеческого бытия в современных социальнокультурных условиях философы, социологи, культурологи осуществляют в парадигме междисциплинарного и философско-антропологического подходов, обращаясь к трудам зарубежных и отечественных мыслителей, определивших собственные пути к гармонизации мира человека.
В этом ряду авторов особое место занимает личность и творчество французского философа XX века Жоржа Батая, который стремился осмыслить и описать аспекты иррациональных сторон общественной жизни. Сегодня актуальны интерпретация батаевской терминологии трансгрессии и попытка понять глубину философских смыслов его сочинений, что требует нового их прочтения и переосмысления. Современный читатель, знакомясь с произведениями Ж. Батая, вынужден преодолевать культурологические, смысловые барьеры в понимании его текстов. На первый взгляд они кажутся непонятными, сложными и противоречивыми для понимания, поскольку каждое высказывание воспринимается будто бы замаскированным, скрытым и раздробленным изнутри. Этот эффект достигается в процессе таких языковых игр, как повторение эпизодов и действий главных героев его произведений, которые словно возвращаются в первоначальную точку пустоты и пытаются понять из нее же свой внутренний мир. Тексты Ж. Батая, в принципе, и не могут быть системными, они сложные, разнородные, черпающие свои истоки из нескольких областей философского знания. Читая произведение Ж. Батая, как будто проходишь сложный лабиринт человеческих отношений. Литературное письмо французского философа – это попытка донести парадоксальные мысли, создать ореол бессмысленности, восторженности, мешающий человеческому общению в тот момент, когда человек стремится выразить посредством языка глубинные вехи философского смысла жизни.
Перечитывая произведения Ж. Батая, мы словно открываем страницы экзистенциальной истории человека от его молодости до глубокой старости. Как критик он идет от анализа различных состояний человека к попыткам их интерпретации, пытается показать эффект наслаждения и трагедии, заблуждений или поиска истины, неотделимый от трансгрессивного состояния человека. Французский писатель переживает экзистенциальный опыт в событиях отчаяния или наслаждения, страха или вины, жертвенности или экстаза. Он стремится выразить этот опыт-трансгрессию в творчестве как таинство, углубляясь в поэтическую практику письма.
Ж. Батай (1897–1962) был широко известен уже в 1930–40 гг. XX века как маргинальный писатель-романист, поэт, эссеист, философ, мистик, о котором много говорили и спорили, в частности, Андре Бретон и Ж.-П. Сартр. К началу XXI века его произведения становятся все более популярными и востребованными в русле историко-философского анализа не только во Франции, но и за ее пределами, например, батаевские идеи о негативной онтологии и радикальной инаковости продолжают оказывать значительное влияние на самые разные области и направления современной интеллектуальной жизни.
Цели исследования – охарактеризовать влияние экзистенциального опыта жизни Ж. Батая на его творчество, определить специфику его философского познания.
Достижение целей в работе предполагает решение задач:
-
1) показать влияние переживаний и внутреннего опыта Ж. Батая на формирование особенностей его мышления;
-
2) определить специфику философского мышления в произведениях Ж. Батая;
-
3) охарактеризовать черты литературного стиля французского философа.
Среди известных философских работ XX и XXI веков подробно раскрывают литературный образ Ж. Батая труды К.В. Ворожихиной, А. Зыгмонта, А. Кожева, М. Сюриа, Ф. Соллерса, Ж. Деррида, Ж.-П. Сартра, М. Фуко.
Научные публикации авторов В.А. Лезьер, А.Р. Ишниязовой, Б. Сишера, П. Прево посвящены аспектам влияния на мировоззрение Ж. Батая творчества отечественных и зарубежных мыслителей XIX и XX веков: Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ницше, З. Фрейда, А. Кожева, Э. Дюркгейма, Л. Шестова, Б. Суварина.
Методами исследования в работе являются:
-
1) метод философского сравнительного анализа, позволяющий выявить интересы Ж. Ба-тая и особенности его философского стиля в контексте социально-культурных реалий XX века;
-
2) феноменологический подход, который определяет влияние жизненных установок автора на переживание и описание им таких экзистенциальных состояний, как невозможное, суверенность, смех, трансгрессия, жизнь и смерть;
-
3) герменевтический подход, позволяющий выявить целостность, взаимоопределяемость характера произведений Ж. Батая и культурно-философского запроса о ценности жизни человека.
Молодой Ж. Батай в своих переживаниях весьма часто предается отчаянию. По его мнению, мир человека – это загадочное существование, тайна, которую следует раскрыть. Большое влияние на сознание французского мыслителя оказывает в этот период знакомство с эмигрировавшим во Францию религиозным философом Львом Шестовым. Л. Шестов в своих работах опирался на идеи Ф. Достоевского и Ф. Ницше, и именно это увлекало Ж. Батая. Л. Шестов при этом не одобрял пренебрежение Жоржа Батая философскими занятиями и стремился приобщить его к чтению философских трактатов, в частности, текстов Платона. О различных аспектах влияния Л. Шестова на Ж. Батая писали такие авторы, как С.Л. Фокин (2002: 14–18), М.О. Пономарева (2008: 91–98), К.В. Ворожихина (2016: 68–85), которые указывают на взаимовлияние взглядов этих двух философов.
По мнению Н.К. Бонецкой, наставничество Л. Шестова определило направление батаев-ской мысли. Представитель иррационализма Ж. Батай интересовался областями миропонимания всякого рода, непонятными разуму, и создал специфическую религиозную интерпретацию ницшеанства (Бонецкая, 2013: 133–143). Нам важно увидеть, какие именно аспекты шестовской мысли увлекли Ж. Батая. Л. Шестов пишет в своей статье «Апофеоз беспочвенности», что человек, находясь в состоянии выхода из равновесия, обретает свободу самовыражения (Лезьер, Ишниязова, 2021: 2722–2728). В целом, все философское творчество Льва Шестова является, прежде всего, актом «внутренней борьбы», результатом некоего вызова или преодоления, которые сами по себе становятся методами поиска истины. Смелость и дерзновенность мысли Л. Шестова в том, чтобы научить нас жить в неведомом, поскольку человек на своем жизненном пути открыт неизвестному, загадочному, что невозможно объяснить, познать как истинное или предвидеть, но что окрыляет дерзновенностью быть вопреки всему.
Этот вызов разуму и знанию мы находим в каждом моменте батаевской интерпретации Л. Шестова. В то же время, как замечает А.И. Зыгмонт в работе о творчестве французского писателя, Ж. Батай принадлежал к поколению немецких мыслителей, от Г. Гегеля, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, которые оказали определяющее влияние на идеи молодого философа (Зыгмонт, 2015: 23–38). К. Джемерчак в своем исследовании «Воскресенье негативности» подчеркивает, что без понимания масштабов влияния немецкой философии на мысль Ж. Батая, понять содержание его произведений невозможно (Gemerchak, 2003: 12).
Произведения Ж. Батая отличаются от стандартных классических философских произведений, так как способность мыслить у французского писателя конструируется иначе: «пересекая разные области восприятия и открывая одно за другим все новое» (Sichère, 2006: 17). Ж. Батай интересовался и принимал активное участие в интеллектуальных, литературных и философских движениях своего времени. Одной из интересующих его философских идей является связь различных областей существования человека с экономическими процессами, что он назвал в 1943 году внутренним опытом, раскрывая взгляд на такие категории, как: излишек, расход, эротизм, нарушение, суверенитет. Эти дефиниции оказали значительное влияние после смерти Ж. Батая на таких молодых мыслителей, как М. Фуко, Ф. Соллерс, Ж. Деррида (Bataille,1973:19).
Осознавая, что его особенности мышления нестандартны, Ж. Батай признавал, что не является философом в классическом понимании, о чем писал Б. Сишер: Ж. Батай является разоблачителем (Sichère, 2006: 13). При этом Ж. Батай затронул невозможные в классической философии концепции тяжести ложных знаний и претенциозной запутанности идей (Sichère, 2006: 13).
Ж. Батай выступил с заявлением на радио, которое противоречило его первым высказываниям о том, что он не философ (Surya, 2012: 525), поскольку, по его мнению, выражение мысли важнее, чем содержание (Surya, 2000: 117–118). Ж. Батай пишет в своей работе об отсутствии связи мышления с философией (Bataille, 1973: 218). Эти выводы наводят на размышление о природе батаевских взглядов, их прямой связи с «анти-философией».
Парадоксальность философии Ж. Батая вслед за Ницше нарушает принципы и цели традиционной философии, раскрывает невысказанное, изгнанное, запретное как «проклятая доля». Огромное влияние при этом на мысли Ж. Батая оказали его собственные размышления о Гегеле, «в большей мере, чем о Ницше» (Surya, 2012: 525). Ж. Батай не может не использовать гегелевскую диалектику как философский метод, чтобы как можно глубже выразить свои знания и мышление. По мнению Ж. Батая, четвертое время гегелевской диалектики, момент растворения синтеза есть захват момента прохождения и движения трансформации, которое инициирует произведение смерти. Так он проводит свою мысль до предела возможного, того, что не осознать интеллектом, и не выразить языком, что неуловимо и невыразимо, но «то, что есть», что стремится испытать через свой внутренний опыт. А опыт, в понимании Ж. Батая, означает – потерять себя, забыть себя, освободиться от своего самосознания, значит – выйти из себя.
Именно поэтому жизнь Ф. Ницше, по мнению Ж. Батая, является воплощением этого опыта «выхода из себя». Крах Ф. Ницше заставляет его задуматься о границе между сознанием философа и безумием поэта, приносящего себя в жертву. Для Ф. Ницше акт письма – это опыт предела, поэтому он принимает сочинения Ф. Ницше за литературу, а не за философский дискурс. И сам он считает себя приглашенным совершить этот опыт литературного общения с Ф. Ницше, то есть принять участие в жертве, с помощью которой Ницше впадает в безумие. По словам Ж. Батая, в то время как Ф. Гегель отворачивается от осознанности, боясь сойти с ума, Ф. Ницше впадает в безумие. Именно поэтому французский философ, следуя диалектической логике, обвиняет Ф. Гегеля в том, что он всего лишь обманщик, который все же хочет сохранить свою жизнь, в то время как Ф. Ницше – его друг, разделяющий мысль о суверенитете, который создает ее, а затем живет ею, рискуя даже смертью.
Как замечал М. Фуко, тексты Ж. Батая носят недискурсивный характер, написаны в пространстве внутреннего опыта, функционирующего самого по себе, в котором коммуникация направлена то вовнутрь субъективности, то вовне, нарушая замкнутость одинокого сознания эффектом иллюзии, самообрушения.
Одновременно это пространство, которое является внутренним, и оно заперто для других. Каждый ищет способы преодолеть свое ограниченное существование, имея желание быть всем, принимая образ жертвы или через обман, подмигивания глазом, печальную улыбку, передающее замаскированное страдание (Foucault, 1977: 30). Ж. Батай, вскрывая средствами литературы душевные раны человека, хочет превзойти его ограниченное существование. Он заявляет о том, что человек не желает быть в этом мире простой вещью, а может идентифицировать себя с полнотой вселенной. Желание превзойти наше ограниченное существование может быть удовлетворено многочисленными способами.
Желание быть всем является знанием, что мы умрем, что наше отдельное существование не соразмерно с вселенной, с которой мы ищем идентификацию. Это беспокойство, которое мы испытываем перед неизбежностью нашего исчезновения, проникает в наше существо, вдохновляет экзистенциальное мучение. Мы избегаем этого страдания, подавляя мысль о нашей смерти.
Ж. Батай мыслит человека как жертву, предстоящую лицом к лицу перед своей смертью и теми чувствами ностальгии о моменте рождения, которые ей суждено будет испытать. Он пишет: «Жертва умирает, таким образом, свидетели участвуют в элементе, который показывает его смерть. Этот элемент священный. Священным является точно преемственность того, чтобы быть показанным тем, кто устанавливает их внимание, в торжественном обряде, в смерти прерывистого существа» (Bataille,1973: 27).
Ж. Батай пишет в своих работах, что мы не можем избежать чувства ущербности, недостатка, который принуждает нас стремиться к идентификации с полнотой того, «чтобы быть», осознанно желать бытия. Мы живем в лабиринте среди других существ, в поисках способов понимания, как жить в пространстве, у которого нет никакого архитектора и нет четкой инструкции, как пройти этот путь (Bataille,1973: 27).
Философ предполагает, что в целом есть только движение энергии, которая вытекает из одного пункта в другой и способствует восхождению человека в пространстве пирамиды для встречи на высшем уровне, когда в реальности он не осознает, что потерян в лабиринте. Во «Внутреннем опыте» Ж. Батай пишет, что сложно обойти этот путь или избежать его, но должно следовать тому, чтобы быть. Одиночество, в котором мы пытаемся искать убежище, является новой устремленностью (Bataille, 1986: 86). Такое сильное переживание, самопризнанное страдание необходимо для того, чтобы быть. Человеку должно, по мнению Ж. Батая, сохранять решающую суровость отчаяния, чтобы быть твердым, стать гарантом смерти, а не жертвой. Таким образом, отношение к жизни Ж. Батая – это процесс драматизации, доведение экзистенции до крайности и до предела. По мнению Ж.-П. Сартра, Ж. Батай выражает свои идеи поэтично, образно, «через собственные язвы, раны…» (Сартр, 1994: 13).
Итак, стиль Ж. Батая – это феноменология собственных переживаний, своего внутреннего опыта. Его работы, специфика их языка, лексики, грамматических особенностей, потаенности смысла, напоминают о самом авторе, о его постоянном желании вторгнуться в область невозможного через мучения и собственные страдания. То молодой философ ощущает себя маленьким ребенком, который выражает себя в смехе, в самоиронии; то он поэтизирует переживания всего «возможного», радости, удовольствия; то спускается за границы боли, ощущений потери, крушения – и все это переплетается в его произведениях.
По мнению Ж. Батая, вне душевных мучительных переживаний смерть кажется легкой. Человек, умирая, дистанцируется от мира людей и все, что вокруг происходит, ему кажется вымышленным, не имеющим смысла. Ж. Батай отмечает, что мы живем в трагическом мире и сами создаем для себя ловушки. Именно в этом заключается трагедия человека, что лишь к концу жизни он начинает понимать, что живет в искусственном мире, находясь, по сути, в придуманном им лихорадочном экстазе. Объектом экстаза является время, которое показывает полет объектов в реальности.
Появление в жизни Ж. Батая движения «Сюрреализм» оказало значительное влияние на будущего философа. Последователями сюрреализма являлись А. Массон, М. Лейри, Т. Франкэ-ль, Ж. Лимбур, Ж. Дельтейль, А. Арто, М. Любекк, Ж. А. Буаффард, Ж. Каррив, Ж. Малькин и др.
В целой серии статей, которые Ж. Батай отправлял в журнал «Аретюз», он проявил себя как автор, который писал психологически безапелляционно и привлек тем самым внимание доктора К. Даусса, который предложил писателю провести психоанализ по методу А. Борэля, основавшего Парижское психоаналитическое общество. В течение года Ж. Батай проходил психодиагностику, и однажды Борэль показал фотографии казни, где фигурирует лицо измученного, схожее с чертами самого Ж. Батая в момент терзаний его отцом, либо, согласно иной интерпретации, гримасы отца, страдающего недугом. Это выражение ужаса и сыграет существенную роль в «методе размышления» писателя. По-видимому, этот метод Ж. Батая описывает английский автор Н. Лэнд в работе «Жажда истребления», представляя его как «соломенного идола», при этом исследователь опирается на не слишком убедительный батаевский эпигон, вплоть до попыток стилистического подражания его текстам в начале каждой главы и почти дословного повторения идей про растворение в «темных глубинах» сакрального и принесения в жертву своего «Я».
Французский писатель конца XX века М. Сюриа в своих мемуарах пишет о единственном литературном воспоминании брака Ж. Батая с С. Мэклес, о его частной жизни и приводит воспоминание философа о смерти его матери (Surya, 2012: 178). По мнению М. Сюриа, эти больные переживания детства демонстрировали уважение и почтение к матери (Surya, 2012: 180) и повлияли на его дальнейшее творчество.
Работая над объяснением проклятого, восторженного и невозможного, Ж. Батай описывает свой поиск через двойной интерес: проклятье, затем восторг и позже уточняет, что мистика в нем остается закрытой (Prévost,1992: 15). В книге «Внутренний опыт» Ж. Батай пишет о мистике как о равнодушном опыте любой религиозной связи (Prévost, 1992: 17). Под влиянием творчества Жана де ла Круа он описывает внутренний опыт, драматизирующий существование, но в котором не достигается состояние восторга или восхищения (Prévost, 1992: 20). По мнению Ж. Батая, разница между философией и мистикой проявляется через опыт, где невозможное возможно, открываясь перед Богом (Prévost, 1992: 51). Опираясь на Р. Декарта, он приводит свой уверенный аргумент к опыту Святого Ансельма, затем он посвящает себя гегельянству, чтобы детальнее остановиться на проблеме сознания.
Таким образом, когда Ж. Батай начинает работать с произведениями, то опирается на собственный опыт и ставит своей целью разобраться «в опыте мистики» (Surya, 2012: 348), опыте, который раскроет для него истину, что Бог отсутствует, Бог – суть невозможный. Ж. Батай отказывается от дефиниции «философ», которую ему дает Р. Келлуа, и стремится состояться, скорее, как «интеллектуальный» писатель.
Французский автор Ф. Варен стремится понять глубину потаенности мысли Ф. Ницше и Ж. Батая, при этом он все время спрашивает самого себя, как писать о творчестве Ж. Батая, как преодолеть те чувства, которые он переживал, когда писал о Ф. Ницше (Warin, 2012).
Этот способ мышления, охарактеризованный Ф. Вареном, влияет на специфику стиля Ж. Батая, поскольку для него «писать» означает обязательство больше не писать так, что, в конце концов, или молчишь, или предаешь суверенитет, о котором говоришь. Или то же самое, если мышление противоположно расходованию, то присоединение к Бытию не может действительно наступить, опыт смерти невозможен, этот момент растворения допускает только дизъюнктивное суждение: или смерть, или я. Для того чтобы она стала возможной, нужно было бы, живя, подвергнуть ее испытанию, наблюдать, как она перестает быть тем, что, очевидно, невозможно… Поэтому невозможно вырваться из литературы, невозможно оторвать одежду от языка: как туника Несса она прилипает к нашей коже, человек – то же, что и язык» (Warin, 2012).
Ж. Батай выбирает литературу, языковые возможности которой способны выразить невыразимое. Почему же он продолжает писать или говорить вместо того, чтобы молчать и погружаться в молчание? Он утверждает, что то, что он хочет сказать, может быть выражено только молчанием? Здесь философ сталкивается с неразрешимым противоречием, так называемым тупиком языковых выражений: даже отказавшись от рациональной философии, он не может не воспользоваться языком, который является продуктом человеческого интеллекта. Ж. Батай противопоставляет литературный язык философскому, поскольку автор свободен произнести то или иное слово для выражения себя, но и литературный язык, по его мнению, никогда не может быть суверенным, иначе он должен подавляться силою запросов. Но было бы неправильно сказать, что молчание означает уничтожение языка, поскольку молчание переживет отмену любого языка, молчание есть то, что ускользает от любого принуждения, которое его обусловливает.
Итак, по Ж. Батаю, молчание – это не уничтожение языка, а преодоление языка, а смерть – это не отрицание жизни, а избыток жизни. Подлинная литература, в его понимании, рождается из молчания, где встречаются поэзия и философия, и в этой встрече писатель высказывает свою страсть, предается злу и, наконец, жертвует собой.
Мари Кристин Лала, известный специалист по философии Ж. Батая, определяет специфику его мышления как феномена несистемного, – что разворачивается и повторяется, – сложного, разнородного, черпающего истоки из нескольких областей знания (Lala, 1985: 60–74).
Внутренний опыт, о котором повествует Ж. Батай, определяет себя как непрекращающийся вызов бытия самому себе: он ставит под сомнение обособленность конкретного бытия в индивиде и позволяет основать систему познания из пределов бытия. По мнению Мари Кристин Лала, это исследование происходит в трансе эмоций (Lala, 1985: 60–74), при этом Ж. Батай стремится основать ту систему знаний, которая связана с движениями отталкивания и притяжения, в траектории которых строят свое бытование люди. По мере продвижения по жизненному лабиринту смерть с каждым разом становится все ближе, интимнее. И чем глубже Ж. Батай погружается в неведение, куда несется мир, тем чаще смерть возвращается как навязчивый мотив (Lala, 1985: 60–74).
Следовательно, по мнению французской исследовательницы, в философской литературе Ж. Батая осуществлен метод повествования, когда оно раскрывает собственное небытие, угрозу, нависшую над субъектом отречения, становится реальностью: «ничто», которое скрывает повторение истории, отдается очевидности, сознанию, как пустота (Lala, 1985: 60–74).
Таким образом, парадоксальность философствования Ж. Батая в том, что по мере того, как функция репрезентации в его мысли разрушается, коммуникация размывается, и образы, на которые опиралось повествование и которые позволяли повествованию представлять акт высказывания, теряют свою правдоподобность. Так, воображаемое в его внутреннем опыте и в мышлении побеждают: воображаемый пейзаж оказывается недействительным, в повествовании происходит разрыв и утрата смысла, потеря личности, смерть, небытие.
Выводы:
-
1. Как показано в содержании статьи, в произведениях Ж. Батая раскрывается его экзистенциальный опыт, посредством которого писателю удается анализировать различные душевные состояния человека, выразить эффект наслаждения и трагедии, заблуждений или поиска истины, неотделимые от трансгрессивного состояния человека. По сути, философствующий писатель Ж. Ба-тай проходит через собственные жизненные переживания, которые впоследствии повлияли на отношение ко всему происходящему, на специфику его философско-поэтической практики письма.
-
2. Парадоксальность философии Ж. Батая, вслед за Ницше, заключается в том, что он выходит за рамки традиционной философии, создает метод философствования, суть которого в том, чтобы раскрывать невысказанное, изгнанное, запретное как «проклятая доля», провести свою мысль до предела возможного, того, что не осознать интеллектом, и не выразить языком, что неуловимо и невыразимо, но «то, что есть», что стремится испытать через свой внутренний опыт.
-
3. Поскольку коммуникация в текстах Ж. Батая размывается на репрезентативном уровне, оказывается необходимым определить согласованность на другом плане, и так постепенно, через этот опыт пустоты, в котором испытывается субъект отречения, референтная функция языка уступает место поэтической функции.
Список литературы Экзистенциальная личность и специфика философского стиля Жоржа Батая: проблема взаимовлияния
- Бонецкая Н.К. Русский Ницше // Вопросы философии. 2013. № 7. С. 133-143.
- Ворожихина К.В. Лев Шестов и его французские последователи. М., 2016. 156 с.
- Зыгмонт А.И. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2015. № 3 (59). С. 23-38. https://doi.org/10.15382/sturI201559.23-38.
- Лезьер В.А., Ишниязова А.Р. Философия «двойного зрения» Льва Шестова и феномен экстаза Жоржа Батая: философский опыт трансгрессии // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 12. С. 2722-2728. https://doi.org/10.30853/mns20210495.
- Пономарева М.О. Л. И. Шестов как предтеча постмодернизма // ХОРА. 2008. № 2. С. 91-105.
- Сартр Ж.П. Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. С. 13-44.
- Фокин С.Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. 320 с.
- Bataille G. Écrits posthumes (1922-1940). Paris, 1970. Vol. II. 231 p. = Батай Ж. Посмертные сочинения (1922-1940). Париж, 1970. Т. II. 231 с. (на фр. яз.).
- Bataille G. L'expérience intérieure, in Œuvres Complètes. Paris, 1973. Vol. V. Pp. 19-218. 560 p. = Батай Ж. Внутренний опыт. Полное собрание сочинений. Париж, 1973. Т. V. 560 с. (на фр. яз.).
- Bataille G. L'Expérience Intérieure, in Oeuvres Complètes. Paris, Gallimard, 1989. Vol. III. 496 p. = Батай Ж. Внутренний опыт. Полное собрание сочинений. Париж, 1989. Т. III. 496 с. (на фр. яз.).
- Foucault M. Language, counter-memory, practice: Selected essays and interviews / Ed. by D.F. Bouchard. New York, 1977. 240 p.
- Gemerchak C. The Sunday of the Negative. Reading Bataille reading Hegel. New York, 2003. 291 p.
- Geny V. Bataille G. Héraclite Contribution à une analyse de la notion de chance. // Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines. 2012. N. 29. Pp. 28-45 = Жени В. Жорж Батай. Гераклит. Вклад в анализ понятия успеха. // Портик. Журнал по философии и гуманитарным наукам. 2012. № 29. C. 28-45. (на фр. яз.).
- Lala M.C. La pensée de Georges Bataille et l'oeuvre de la mort // Littérature. Le savoir de l'écrit. 1985. N. 58. Pp. 60-74 = Лала М.К. Мысль Жоржа Батая и произведение смерти // Литература. Знание письма. 1985. № 58. С. 60-74. https://doi.org/10.3406/litt.1985.1389. (на фр. яз.).
- Prévost P. De Georges Bataille à René Guénon ou l'expérience souveraine, Paris, 1992. 182 p. = Прево П. От Жоржа Батая до Рене Генона или суверенный опыт. Париж, 1992. 182 с. (на фр. яз.).
- Sichère B. Pour Bataille. Être, chance, souveraineté. Paris, Gallimard, 2006. 180 p. = Сишер Б. Для Батая. Бытие, удача, суверенитет. Париж, 2006. 180 с. (на фр. яз.).
- Surya M. Georges Bataille, la mort à l'œuvre. Paris, Gallimard, 2012. 714 p. = Сюрия М. Жорж Ба-тай, смерть на работе. Париж, 2012. 714 с. (на фр. яз.).
- Warin F. La parodie dans tous ses états // Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines. 2012. № 29. Pp. 4555 = Варэн Ф. Пародия во всех ее проявлениях // Портик. Журнал по философии и гуманитарным наукам. 2012. № 29. C. 45-55. (на фр. яз.).