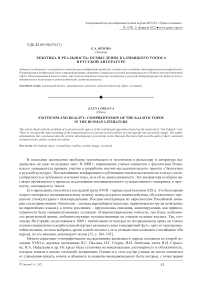Экзотика и реальность: осмысление калмыцкого топоса в русской литературе
Автор: Орлова Елена Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор на материале «калмыцкого» текста рассматривает проблему экзотизмов в аспекте оппозиции реальное/ирреальное. Раскрывается внутренний смысл трансформации конкретно-социальных реалий инонационального быта в художественный образ. Обосновывается вывод о том, что художественное освоение экзотизмов в русской литературе шло по пути их последовательного включения в художественную систему реализма.
Калмыцкий топос, ориентализм, реализм, художественный образ, экзотика
Короткий адрес: https://sciup.org/148324198
IDR: 148324198 | УДК: 82.09:39(470.47)
Текст научной статьи Экзотика и реальность: осмысление калмыцкого топоса в русской литературе
В последнее десятилетие проблема экзотического и экзотизмов в фольклоре и литературе выдвинулась на одно из ведущих мест. В 2008 г. воронежские ученые совместно с филологами Лозаннского университета приняли участие в разработке научно-исследовательского проекта «Экзотизмы в русской культуре». Последовавшие конференция и публикации свидетельствовали не только о целесообразности углубленного изучения темы, но и об ее дискуссионности. Эти два фактора особенно наглядно проявляются в процессе исследования инонационального художественного материала, в частности, «калмыцкого» текста.
Его зарождение относится к последней трети XVIII – первым десятилетиям XIX в. Это было время острого интереса к инонациональному аспекту межкультурного взаимодействия, обусловленного процессом этнокультурного самоопределения. Поездки иностранцев по окрестностям Российской империи стали привычными. Читателям – сначала европейцам (поскольку первоначально труды печатались на европейских языках), а потом россиянам – предлагались описания, акцентирующие, как правило, странности быта «нецивилизованных туземцев». В мировоззренческие тонкости, тем более особенности религиозной жизни, любопытствующие путешественники не считали нужным входить. Так, голландец Ян Стрюйс, подытоживая в 1669 г. впечатления от поездки по Астраханскому краю, не только оставил неприлично оскорбительный портрет калмыка («лицо в квадратный фут», «рот и глаза чрезвычайно велики», волосы выбриты, кроме одной «космы»), но и отождествил калмыков с ногайцами: оба народа, по его мнению, исповедуют ислам [15, с. 104–105].
Начало серьезным этнографическим исследованиям калмыцкого народа положили во второй половине XVIII в. научные экспедиции П.С. Палласа, И.Г. Георги, И.И. Лепёхина, затем Н.И. Страхова, Н.А. Нефедьева и др. Их кредо была установка на максимальные достоверность и объективность, которые лежали в основе «полевой» дескрипции. Однако и в этом случае ученые не могли отказаться от стремления описать, понять и объяснить те моменты инонационального быта, которые, с точки зрения жителя центральной России, несли элемент экзотики. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово «экзотический» толкуется как «чуже(ино)земный, из жарких стран» [7, Т. IV, с. 663].
«Порой возникает впечатление, что всякий отчет о путешествиях или о далеких странах может рассматриваться как проявление экзотизма», – пишет Л. Геллер [6, с. 9]. Показательно, что А.М. Павлов, хорошо известный в писательских кругах 1830–1840-х гг., будучи по служебным надобностям в калмыцком регионе, был намерен «сблизиться» с народом, «занимательным по своим привычкам, склонностям, вероисповеданию, языку и образу жизни» [12, с. 3].
Помимо прочего, установка на художественное воспроизведение странного, занимательного и даже диковинного, поддерживалась ориентализмом русской культуры периода романтизма. Художественное открытие Востока априори открывало перспективы авторской фантазии, давало гарантию творческого взлета, стимулировало освоение новых тем, образной системы, формирование специфических средств стилистико-языковой выразительности. «Итак, поэты русские, не выходя за пределы своей Родины, могут перелетать от суровых и мрачных преданий Севера к роскошным и блестящим вымыслам Востока», – писал в очерке «О романтической поэзии» (1823) Орест Сомов [18, с. 247]. Элементы восточной поэтики были в разной степени присущи творчеству В.А. Жуковского, В.К. Кюхельбекера, Ф.Н. Глинки, А.А. Бестужева-Марлинского, В.Ф. Одоевского, М.Ю. Лермонтова и, конечно же, А.С. Пушкина. По утверждению Вяч. Вс. Иванова, «русская поэзия включает в себя и Восток, как часть нашей живой истории, длящейся в опыте современности» [8, с. 424]. Совершенно естественно, что ориентализм, открывший широкую дорогу экзотике, дал «исходную модель построения экзотических объектов» [6, с. 22].
В последние десятилетия статус авторитетнейшего исследования получил трактат американского культуролога, профессора Колумбийского университета Э.В. Саида «Ориентализм» (1978). Автором доказывается, что образ Востока всегда выступал в сознании европейцев антитезой по отношению к Западу и его осмысление с позиций европоцентризма носило ангажированный и тенденциозный характер. Отечественные ученые основную заслугу Э.В. Саида видят в заострении вопроса о необходимости выработки адекватной методологии, благодаря которой были бы преодолены бытующие стереотипы и трафареты в осмыслении восточной культуры на всех уровнях – от бытового до мировоззренческого и политического. Именно этот аспект должен привлечь внимание специалистов-гуманитариев широкого профиля: антропологов, семасиологов, философов, филологов и др.
Впрочем, агрессивный европоцентризм был преодолен уже в первых серьезных этнографических описаниях калмыцкого народа. П.С. Паллас, например, рассматривал свои научные разыскания как полемику с поверхностными работами предшественников, не скупившимися на негативные отзывы о диких нравах «монгольской орды». Отсюда удивительные и не вполне уместные на первый взгляд суждения о сходстве калмыков с «французским простым народом» или замечания о красоте калмыцких женщин, которые «столь пригожи», что и в европейских городах не стали бы ими «гнушаться» [13, с. 458, 456]. В контексте подобных сопоставлений специфические черты восточного обличья приобретали в глазах жителей равнинной России привлекательность, лишенную демонстративной, тем более нарочитой экзотичности. В.И. Даль, например, вводит определение калмыковатый , отмечая самые общие признаки типа: «Калмыкова́тый, с лица похожий на калмыка: плосколицый, скулистый, с глазами особого покроя». К числу характерных реалий отнесены калмыцкий чай, кустарник тамарикс («калмыцкий ладан»), шилья (щетинная трава), мерлушка (шкурка ягненка) [7, Т. II, с. 79].
Этнографическое направление в русском реализме 1840–1850-х гг., родоначальником которого явился В.И. Даль, подхваченное затем Д.В. Григоровичем и И.С. Тургеневым, ставило своей целью не подчеркнутое выдвижение на первый план экзотизмов народной, в том числе инонациональной, жизни, но «верность натуре» в любых проявлениях. В.Г. Белинский выдвинул понятие «фантастическая народность», которое, как и «фантастический космополитизм», оценивалось им резко отрицательно [2, Т. X, с. 25–26].
Восточные экзотизмы в этом отношении не составляли исключения. Доказано, что русская разновидность ориентализма, сформировавшаяся в первой четверти XIX в. уникальна, поскольку «рус- ская культура избирательно включала в себя восточные элементы, каждый из которых, маркируясь как “чужеродный”, выполнял функции, строго определенные русской семиосферой, таким образом становясь “своим”» [1, с. 4]. Однако был и обратный процесс: реалии, считавшиеся исконно русскими, могли получить интерпретацию в восточном стиле. В контексте такого двуединства осуществлялось художественное освоение калмыцкого топоса. Приведем показательный пример.
Прочно вошли в наше сознание стереотипы: Волга-матушка, Волга – русская река, кормилица русского народа и т. п. Однако, как показывают специальные исследования, вплоть до 1890-х г. Поволжье не имело статуса сугубо русского региона. Представления о Волге как о русском национальном символе сформировались лишь к середине XIX в. В пушкинское время это был идеал «общеимперского (наднационального) единства» [10, с. 76]. В аспекте нашей проблемы символично, что, в частности, для Адама Олеария, немецкого географа, историка, математика и физика, оставившего описание своего путешествия по Московии (1647), в равной степени экзотически звучали лексемы Волга и калмык [см.: 11, с. 190]. Можно вспомнить и В.Г. Белинского, который, сравнивая поэзию Пушкина с Волгой, подчеркивал не национальную специфику, но синтетический характер пушкинского творчества. «Великие реки составляются из множества других <…>. Приняв в себя столько рек, и больших, и малых, Волга пышно катит свои собственные волны <…>. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде» [2, Т. VII, с. 266].
Писатель Е.Н. Чириков в начале XX в. назвал полиэтноконфессиональный мир Поволжья «великим Ноевым ковчегом», где «собрались на свидание все народы Европы и Азии и все их боги, злые и добрые, со всеми чадами и домочадцами: великоросс, малоросс, татарин, чуваш, черемисин, мордвин, немец, еврей, персиянин, калмык... Христиане разных толков, последователи Будды, Магомета, грозного ветхозаветного Иеговы, Заратустры, первобытные язычники» [20, с. 95]. Безусловно, великая река поила и кормила все народы, населявшие ее берега, в том числе и разбросанные в низовьях калмыцкие улусы. Исходя из такого контекста, можно утверждать, что концепт Волга является одним из основных русско-калмыцких концептов.
Другое дело, что в восприятии калмыка и жителя равнинной России Волга была разной. В.В. Розанов в 1907 г., совершая путешествие по реке, назвал ее «русским Нилом» и писал так: «Все на Волге мягко, широко, хорошо»; «И все на Волге, и сама Волга точно не движется; не суетится, а только “дышит” ровным, хорошим, вековым дыханием. Вот это-то вековое ее дыхание, ровное, сильное, не нервное, и успокаивает» [17, с. 193, 197]. Ширь, простор, спокойствие, безмятежность… – все это устойчивые характеристики волжского ландшафта. Но обратимся к повести «Утбалла» писательницы Е.А. Ган, с именем которой связано понятие «калмыцкого» текста в русской литературе 1830 – 1840-х гг. Ее героиня, дочь калмычки и русского купца, воспитанная отцом в городской среде, волей судьбы попадает в приволжское кочевье. Она часто любуется Волгой, которая летом становится морем и «весело катит свои волны между зелеными лесами; тысячи судов скользят по ее поверхности, разноцветные флаги пестреют на мачтах, звонкие голоса промышленников оглашают берега заунывными напевами». Однако внезапно налетает ураганный ветер, и тогда Волга «бурлит, чернеет, вихрь кружит прибрежный песок, вздымает его столбами. Веселые песни переходят в вопли страха, а нередко и в смертные стоны». И девушке, в которой текла восточная кровь, ближе именно мятежная безудержность: она «с дикой радостью встречала эти грозы: грудь ее свободнее дышала разъяренным воздухом, и взор жадно любовался грозным мятежом волн, когда они вздымались, ныряли и разбивали одна другую острыми зубастыми хребтами. Душа ее просилась, рвалась вслед за ними из душных степей <…>» [5, с. 30]. Вспомним лермонтовского Мцыри: «О, я как брат, / Обняться с бурей был бы рад!».
Однако наряду с активностью протестующего начала в характере героини проявлялась мудрая готовность терпеливо переносить удары судьбы. В этой готовности можно усмотреть элементы восточного фатализма, но целесообразно также вспомнить известнейшую молитву, которую считают своей приверженцы разных христианских течений и которую часто связывают с молитвенным каноном Оп- тинских старцев: «Господи, дай мне спокойствие духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого».
Массовое сознание давно наполнило национальный и инонациональные топосы расхожими мифологемами и архетипическими ассоциациями: Сибирь – страна морозов и медведей, Кавказ – край снежных вершин, Калмыкия – бесконечное степное пространство, напоминающее о грозном монгольском нашествии и т. п. В большинстве подобных случаев речь должна идти о стереотипизации мышления, в которой часто доминирует именно экзотический элемент. Данная проблема, как и общие вопросы, связанные с необходимостью изучения процесса функционирования инокультурных образов в национальном контексте, стимулировало возникновение имагологии – одного из ведущих направлений науки второй половины XX – первых десятилетий XXI в. В основу имагологических характеристик положен принцип оппозиционности «своего» и «чужого», и этностереотипы позволяют хотя бы на начальном этапе ориентироваться в инонациональной среде, хотя далеко не всегда адекватно.
Тем не менее данное явление заслуживает внимания литературоведов по той причине, что исходным в имагологии является понятие образ. По нашему мнению, к этностереотипу можно подойти в свете основных положений А.Н. Веселовского, сформулированных в знаменитой работе «Из истории эпитета» (1895). Ученый писал о значимости «нередко бытового или этнографического предания» в плане национального своеобразия. Постоянные эпитеты были охарактеризованы им как примеры окаменевшего содержания, а сам процесс окаменения назван вырастающим «за пределы собственно эпитета, когда оценка явлений известного порядка переносится на явления другого, враждебного или противоположного <…>» [4, с. 60, 65–66].
Этностереотип – это полностью окаменевший образ, который отражает общий уровень социальнокультурной коммуникации и характер межнациональных отношений. Конечно, в этнических стереотипах часто воплощаются схематизированные и упрощенные представления о физических, ментальных, морально-этических характеристиках представителей различных национальных общностей. Тем не менее любой инонациональный топос проходит на начальном этапе стадию стереотипизации и калмыцкий – не исключение. Однако следует учесть, что феномен этностереотипизации в целом, как и его конкретные разновидности, выделяющие экзотическое начало, не однозначен.
Так, для жителя лесной России чертами экзотического этностереотипа был наделен кумыс, кисломолочный напиток степных кочевых народов. Было бы странным не встретить информацию о нем в сочинениях, посвященных жизни и быту калмыков. И эта информация, часто довольно пространная, всегда присутствует. В исследовании И.И. Лепёхина, который ориентировал свой труд, как замечено в предисловии, «на любопытство» благосклонного читателя, удивляют те детализация и тщательность, с которыми представлено этнографом производство «пьяного пития из молока». Причем различные стадии изготовления «хмельного напитка» не только описаны с величайшей скрупулезностью, но и сопровождены точными рецептурными рекомендациями.
Подобный технологический экскурс был обусловлен не столько стремлением удовлетворить читательскую потребность в экзотике, сколько профессиональными интересами исследователя. Следует напомнить биографию ученого. В бытность пребывания в Страсбургском университете (1762–1767) И.И. Лепехин защитил диссертацию «Об образовании уксуса» и профессионально стремился доказать иностранным химикам, что алкоголь из молока – вовсе «не басня» [9, с. 222 – 224]. Получается: то, что могло восприниматься в плане экзотики, по сути, не являлось ею, и кажущийся акцент на необычном объясняется за- и вне текстовыми факторами. В данном случае – биографией исследователя.
Таким образом, не следует преувеличивать, тем более абсолютизировать значение экзотического и экзотизмов в инонациональном тексте. Л. Геллеру принадлежит очень важное замечание о том, что природа экзотического парадоксальна. С одной стороны, «экзотизация» отражает объективное разнообразие, но, с другой – «расшатывает прочность мира», заставляет сомневаться в его реальности [6, с. 13]. Не случайно, Ц. Тодоров считал экзотическое и чудесное разновидностью фантастического [19, с. 49].
Акцент не на привычном и обыденном, но на чем-то исключительном может привести к подмене действительности ее суррогатом, породить самообман и деструктивное состояние постоянной непреходящей неудовлетворенности. Нужна была мудрая трезвость А.С. Пушкина, чтобы вынести жесткий вердикт склонности к иллюзиям и отчетливо сформулировать творческое кредо: «Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломанный забор <…>». И далее: «Мой идеал теперь – хозяйка, / Мои желания – покой, / Да щей горшок, да сам большой » [16, Т. V, с. 203]. С этой точки зрения заслуживает внимания диалог между русскими собеседниками: образованным литератором и простым человеком из народа, воспроизведенный А.Ф. Писемским в путевом очерке «Астрахань» (1857). Диалог свободен от каких-либо элементов сентиментальности и идеализаторства и потому особенно ценен: «– Что это за народ? – спросил я извозчика. – Калмык, – отвечал он. – Экие некрасивые, – заметил я. – С чего ему красивому быть, – подхватил извозчик. – Зверем в степи живет, всяку падаль трескает; ребятишки, словно нечистая сила, бегают голые да закопченные <…>. Что же, тебе не нравятся калмыки? – Да чему же нравиться? Дикий народ, – отвечал извозчик, – а сердцем так прост, – прибавил он. – Прост? – Прост. Приезжай к нему теперь в кибитку хошь барин, хошь наш брат мужик, какое ни на есть у него наилучшее кушанье, сейчас тебе все поставит <…>» [14, с. 489]. Показательно: «хошь барин, хошь наш брат мужик», т. е. сословных различий для гостя у калмыков не существует. И этот факт, обусловленный калмыцким менталитетом и укладом жизни, более поразил русского простолюдина, чем экзотические детали быта.
Верность «натуре» как одно из требований нарождающегося реализма привело, в частности, к контаминации образов «восточного» и «естественного» человека, утвердившегося в связи с увлечением идеями Ж.Ж. Руссо. Руссоизм как комплекс социально-философских, нравственно-религиозных и эстетических идей в первых десятилетиях XIX в. воспринимался на разных уровнях и в различных формах. Однако в любом случае осмысление и освоение руссоизма способствовало расстановке новых акцентов в соотношении реальное / ирреальное . Предпочтение отдавалось первому компоненту, причем в его социально-психологической конкретике.
Женевский мыслитель не обошел вниманием и монгольский этнос, представители которого, помимо калмыков, были рассеяны по просторам Российского государства. Более того, культ «естественного» человека, апология «естественного состояния», как производные от культа природы, поддерживались христианской аксиологией, поскольку оторванные от европейской цивилизации люди часто отождествлялись с людьми до грехопадения, еще не вкусившими плода от древа познания добра и зла. Тот же П.С. Паллас, подчеркивая, что воспитание у калмыков «поручено натуре», отмечал их «только здоровое и совершенное тело», хорошую осанку («все сановиты»), долгожительство и жизнестойкость.
В научной литературе в процессе анализа художественного пространства используются понятия топос и локус (соответственно, греческий и латинский термины). Они не всегда четко разграничиваются. Однако дифференциация пространственных феноменов существует. По нашему мнению, локус связан с конкретными маркерами, топос включает их как составные единицы. Он состоит из множества локусов. В качестве маркеров русского литературного топоса XIX в. можно выделить несколько знаковых локусов, которые обозначаются архетипами ( вверх / низ, правое / левое ), ландшафтными реалиями ( река, дорога, поле, лес ), социально-бытовыми объектами ( дом, порог, окно, крестьянская изба, дворянская усадьба ).
Что касается «калмыцкого» топоса, то образец его маркировки в параметрах реальности мы находим у А.С. Пушкина в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года». Закономерно, что для путника, долгое время испытывавшего дорожные неудобства, желанным знаковым объектом в открытом пространстве явилось жилище: «кочующие кибитки», оживлявшие «необозримую однообразность» степи. Видимо, не случайно также, что поэт, частый гость в русской деревенской избе, обратил внимание на необычную конструкцию помещения: круглый плетень, крытый шестами, обтянутый белым войлоком, с отверстием вверху. Разумеется, описание неполно и никакого отношения к строительному делу не имеет, однако для жителя центральной России оно информативно. Рядом с кибиткой паслись кони, «знакомые по верному карандашу» известного живописца А.И. Орловского (вновь отсылка к опыту русских читателей). В описании же локуса самой кибитки А.С. Пушкиным выделяется архетипический интернациональный символ дома – очаг («котел варился посредине»). Поэт как бы не увидел или не счел нужным отметить другие предметы, которые являлись традиционной принадлежностью калмыцкого жилища и могли быть восприняты как туземные экзотизмы: сундуки (авдрмуд) для хранения одежды, украшений и прочих семейных ценностей, кожаный бурдюк (архд) для кумыса, многочисленные кошмы (девскрмʏд) и войлок (ширдг) различного назначения и разной формы, буддийские реликвии (изображения бурханов – танки, молитвенный барабан – кʏрде) и пр.
Из «целого калмыцкого семейства» внимание путника привлекла (и не могла не привлечь) молодая девушка: «Лицо смуглое, темно-румяное. Багровые губки, зубы жемчужные» [16, Т. VI, с. 743]. Для поэта такой выбор более чем естественен. Попутно заметим: известно, что другая прекрасная калмычка покорила и В.А. Жуковского во время переезда из Тюмени в Тобольск с цесаревичем Александром Николаевичем в 1837 г. Можно сказать, что произошел своеобразный обмен: «ученик», восприняв формулу «учителя» гений чистой красоты , воплотил и возвратил ее в образе степной красавицы.
Однако с точки зрения этнографа малопонятным выглядит тот факт, что А.С. Пушкин ни словом не обмолвился о других присутствующих в помещении. «То, чтобы гость был оставлен без внимания главой семейства или старшими членами семейства, в высшей степени странно, и мы никогда не будем иметь возможности узнать ни того, сколько человек было в семействе калмыков, которое посетил поэт в кибитке, ни того, какое место занимала в нем собеседница поэта, “собою очень недурная”. Была ли это дочь хозяина или его молодая жена – это остается непонятным». Если же девушка не замужем, отмечается исследователями, возле нее должны быть родители, братья и сестры [3, с. 83]. В итоге авторы приходят к неожиданному для читателей выводу: «<…> эпизод из “Путешествия в Арзрум” – скорее всего, литературный монтаж из разнородных наблюдений, сделанных автором в разных местах и в разное время. В противном случае пушкинский текст не имел бы такого количества умолчаний и литературной заостренности на антиэстетических этнографических реалиях» [Там же, с. 87]. Безусловно, мнение специалистов имеет право на существование, но прав и поэт в своих «умолчаниях» и «литературной заостренности».
Пушкинская рецепция действительно избирательна, но в такой избирательности нет погрешностей. Калмыцкий топос в поэтическом восприятии, подобно мозаике, складывается из совокупности дискретных локусов, маркированных предметно-вещественными и ландшафтными деталями. И любопытно, что «антиэстетические этнографические реалии» по существу сведены именно к экзотике: к калмыцкому чаю «с бараньим жиром и солью». Однако эта экзотическая частность нисколько не препятствует поэтическому обобщению. Диалог с калмычкой, как и общее впечатление от нечаянной встречи, вылились у Пушкина в стихотворные строки, выражающие суть его жизненной позиции: «Друзья! не всё ль одно и то же: / Забыться праздною душой / В блестящей зале, в модной ложе, / Или в кибитке кочевой?» [16, Т. III, с. 115].
Таким образом, исследуя фрагменты калмыцкого топоса, отразившиеся в русской словесности первой трети XIX в., мы приходим к выводу: соотношение экзотики и реальности эволюционировало в сторону status quo (настоящего положения вещей), что способствовало утверждению и укреплению реалистических тенденций в отечественной культуре.
Список литературы Экзотика и реальность: осмысление калмыцкого топоса в русской литературе
- Алексеев П.В. Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX века: от А.С. Пушкина к Ф.М. Достоевскому: моногр. Томск: Изд-во ТГУ, 2015.
- Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.
- Бурыкин А.А., Басангова Т.Г. Этнографический комментарий к тексту «Путешествия в Арзрум» // Гуманитарная наука Юга России: международное и региональное взаимодействие: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Элиста, 14–15 сент. 2016 г.). Элиста: Калмыц. науч. центр РАН, 2016. С. 83–87.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989.
- Ган Е. Утбалла // Ган Е. Утбалла: Повесть; Корженевская И. Девочка Царцаха: Повесть. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1990. С. 3–64.
- Геллер Л. К описанию экзотизмов. Предложения // Филологические записки. Вып. 27. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. С. 5–31.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1955.
- Иванов В.В. Темы и стиль Востока в поэзии Запада // Восточные мотивы: Стихотворения и поэмы: сб. М.: Наука, 1985. С. 424–470.
- Лепехин И. Дневные записки путешествия … по разным провинциям российского государства в 1768 и 1769 году. СПб.: Императорская Академия наук, 1771.
- Лескинен М.В. Волга – русская река. Из истории формирования и аргументации // Вопросы национализма. 2013. № 4(16). С. 50–76.
- Никандрова Т.Е. Экзотическая лексика русского происхождения в сочинении А. Олеария о Московии: дис. ... канд. филол. наук. М., 2015.
- Павлов А.М. О калмыках, кочующих в Астраханской степи; Разговор с пустынником в хижине и о персиянах, водворившихся в Астрахани / Соч. путешествовавшего по России с 1824 по 1835 г. А. Павлова. 3 и 4 отд-ние. СПб.: Тип. Х. Гице, 1845.
- Паллас П.С. Путешествия по разным местам Российского государства: в 3 ч.: в 5 кн. Репринт. изд. 1773–1778 гг. СПб.: Альфарет, 2007.
- Писемский А.Ф. Астрахань // Писемский А.Ф. Собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М.: Правда, 1959. С. 487–504.
- Путешествие по России голландца Стрюйса // Астраханский сборник Петровского общества исследователей Астраханского края. Астрахань, 1896.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М., Л.: Изд-во АНСССР, 1957–1958.
- Розанов В.В. Русский Нил. / Подг. текста, вступ. ст. и коммент. В. Сукача // Новый мир. 1989. № 7. С. 188–231.
- Сомов О.М. Литературно-критические статьи // Литературно-критические работы декабристов. М.: Худож. лит., 1978. С. 242–260.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Чириков Е.Н. Волжские сказки // Собр. соч.: в 17 т. Т. 16. М.: Моск. кн-во, 1916. С. 94–120.