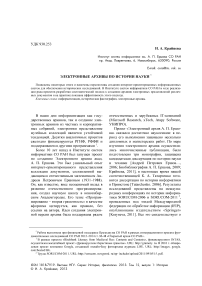Электронные архивы по истории науки
Автор: Крайнева Ирина Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Подведены некоторые итоги и намечены перспективы создания интернет-ориентированных информационных систем для обеспечения исторических исследований. В Институте систем информатики СО РАН в ходе реализации ряда проектов разработан систематический подход к созданию архивов электронных представлений различных документов и на практике показана эффективностьэтого подхода.
Информатизация, историческая фактография, электронные архивы
Короткий адрес: https://sciup.org/147218685
IDR: 147218685 | УДК: 930.253
Текст научной статьи Электронные архивы по истории науки
В наши дни информатизация как государственных архивов, так и создание электронных архивов из частных и корпоративных собраний, электронное представление музейных коллекций является устойчивой тенденцией. Десятки аналогичных проектов ежегодно финансируются РГНФ, РФФИ и поддерживаются другими программами 1.
Более 10 лет назад в Институте систем информатики СО РАН был запущен проект по созданию Электронного архива акад. А. П. Ершова. Это был уникальный опыт интернет-ориентированного представления коллекции документов, составленной выдающимся отечественным математиком Андреем Петровичем Ершовым (1931–1988). Он, как известно, внес неоценимый вклад в развитие отечественного программирования, создал научную школу в новосибирском Академгородке. Его тезис «Программирование – вторая грамотность» в качестве афоризма цитируется, как правило, без ссылки на автора. Идея создания электронной версии архива была поддержана рядом отечественных и зарубежных IT-компаний (Microsoft Research, xTech, Atapy Software, УНИПРО).
Проект «Электронный архив А. П. Ершова» оказался достаточно наукоемким: в период его выполнения защищено несколько дипломных и магистерских работ. По мере изучения электронного архива осуществлялись многочисленные публикации, было подготовлено три монографии, защищена кандидатская диссертация по истории науки и техники [Андрей Петрович Ершов…, 2006; Биобиблиография А. П. Ершова, 2009; Крайнева, 2011], в настоящее время нашей соотечественницей К. А. Татарченко готовится диссертация по истории информатики в Принстоне [Tatarchenko , 2006]. Результаты исследований представлены на международных конференциях по истории информатики SORUCOM-2006 и SORUCOM-2011 2, проведенных под эгидой Международной федерации по обработке информации (IFIP), опубликованы издательством «Springer» [Krayneva, 2011]. Все это свидетельствует о
* Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума СО РАН в рамках интеграционного проекта фундаментальных исследований СО РАН 2012–2014 гг. М-48 «Открытый архив СО РАН».
высокой эффективности публикации архива документов в виде фактографической информационной системы.
После завершения Электронного архива А. П. Ершова Институт систем информатики СО РАН инициировал проект Электронный фотоархив СО РАН 3. В этом архиве впервые были собраны коллекции фотографий по истории науки в Сибири из разных источников: от фотокорреспондентов, организаций, из частных собраний. В истории Новосибирска самым знаковым событием ХХ века стало создание города науки – новосибирского Академгородка. Начало фотолетописи Академгородка (от момента поиска места для него) было положено благодаря прозорливости акад. М. А. Лаврентьева. Он пригласил фотографа Р. И. Ахмерова, который уже работал для институтов ЗападноСибирского филиала АН СССР. Позднее появились и другие профессиональные фотографы, выполнялась любительская съемка. С сожалением мы узнавали в процессе создания фотоархива, что некоторые коллекции фотографий уже не восстановить.
Р. И. Ахмеров с помощью трофейного Linhofа запечатлел на фотопленку строительство институтов и жилых домов, первые эксперименты в Институте гидродинамики, многочисленных гостей нового научного центра, ученых. Это были съемки ради съемок, создание фотолетописи, архива. Еженедельник нового научного центра «За науку в Сибири» появился только в 1961 г., фотографий публиковалось немного. Ахмеров тем временем овладел кинокамерой, М. А. Лаврентьев оплачивал вертолет для панорамной съемки. За более чем 50летнюю историю в Сибирском отделении РАН накоплен богатейший кинофотофонд, который до недавнего времени был слабо интегрирован. В настоящее время БД «Электронный фотоархив СО РАН» содержит свыше 30 тыс. фотодокументов по истории науки в Сибири, архив еженедельника СО РАН «Наука в Сибири» за 1961–1997 гг. (более поздние номера выложены на сайте еженедельника) и часть киноархива СО РАН. Пользователями созданной коллекции стали СМИ, сотрудники СО РАН, музеи, издательства, научные учреждения в стране и за рубежом. В наши дни продолжается пополнение фотоархива СО РАН уже пре- имущественно за счет частных коллекций, оно связано с распространением информации о созданном ресурсе.
Таким образом, электронная технология исторической фактографии, разработанная в ИСИ СО РАН, дает в руки исследователя инструмент для архивации массивов разнородных артефактов (как по типу, так и по месту основного хранения) и их интеграции с сопряженной информацией – такой, как авторы, участники, организации, мероприятия, документы и др. Технология базируется на концепции Semantic Web, собственных наработках, на опыте, полученном в результате выполнения ряда проектов музейноархивной направленности. Созданы база данных «Хроника Сибирского отделения РАН» 4; портал ресурсов «Математическое дерево» 5, включающий коллекцию редких математических книг; электронный архив по проблеме Тунгусского метеорита 6; электронный архив Ольги Михайловны Фрей-денберг – выдающегося философа культуры первой половины ХХ в. 7 Последний проект осуществлен под влиянием наших разработок, им, так же как и большинством вышеназванных, руководил д-р физ.-мат. наук А. Г. Марчук.
В настоящее время на имеющейся технологической основе с учетом накопленного опыта с научными архивами выполняется интеграционный проект фундаментальных исследований «Открытый архив СО РАН» (2012–2014 гг.). В нем участвует ряд институтов СО РАН: Институт истории, Институт археологии и этнографии, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, музейные подразделения данных институтов. Каждый из участников проекта представит свою специфическую коллекцию, собранную в процессе профильной деятельности. Работа, которая проводится в рамках проекта «Открытый архив СО РАН», не противоречит тем усилиям по сохранению историко-культурного наследия, которые прилагают государственные архивы. Создание интернет-ориентирован-ных баз данных позволяет расширить охват невостребованных архивов и сделать их более доступными.
Что же происходит с физическими архивами после того, как они проходят оцифровку? В нашей практике работы над электронным фотоархивом СО РАН значительная часть фотографий и негативов была передана на постоянное хранение в музей СО РАН, многое осталось у владельцев. Полезность проделанной работы состояла не только в аккумулировании коллекций, но и в том, что многие фото были достоверно аннотированы благодаря их открытой публикации.
Инициируя проект Открытого архива, мы старались выявить, если можно так выразиться, скрытые резервы держателей коллекций, найти то, что пока не попало в сферу интересов Научного архива СО РАН и других архивов. Например, документы по подготовке археографических экспедиций Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (ГПНТБ) и такие их результаты, как фотофиксация экспедиционных будней, накопленные за долгие годы, практически не были обнародованы. Интернет-представления уникальных коллекций Отдела редкой книги ГПНТБ СО РАН также не существует, – мы хотим восполнить этот пробел.
Не вдаваясь в подробное описание всех коллекций Открытого архива СО РАН, в качестве примера нам хотелось бы остановиться на одной из них. Это личный архив директора Института радиофизики и электроники СО АН СССР (1957–1964) Ю. Б. Ру-мера. Среди множества ярких ученых Сибирского отделения он выделяется своей необычной научной и человеческой судьбой.
Юрий Борисович Румер (1901–1985) – физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1935), родился в Москве в еврейской семье купца I гильдии. В 1917 г. поступил на Математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В 1918 г. перевелся в Московский университет и в 1924 г. окончил его математическое отделение. В 1920– 1921 гг. служил в Красной Армии. Одновременно был студентом Института востоковедения в Москве (персидский разряд). Для продолжения образования в 1927 г. выехал в Германию, учился в Политехническом институте в Ольденбурге, где и напи- сал свою первую работу по теории относительности. С 1929 по 1932 г. – ассистент Макса Борна в Институте теоретической физики в Геттингене. По возвращении в Москву стал профессором МГУ, работал научным сотрудником Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР. В 1938 г. был арестован вместе с Л. Д. Ландау и М. А. Корецом, осужден на 10 лет «за участие в антисоветской группе Ландау». Работал в «шарашках» с известными самолетостроителями А. Н. Туполевым, Б. С. Стечкиным, А. И. Некрасовым. После освобождения находился в ссылке в Енисейске (Лесосибирск), с 1948 по 1950 г. – преподаватель Енисейского учительского института. В 1950–1953 г. – безработный. С 1953 по 1957 г. – заведующий отделом технической физики Западно-Сибирского филиала АН СССР. В 1957–1964 гг. – директор Института радиофизики и электроники СО АН СССР. С 1965 г. – заведующий лабораторией Института математики, а затем – заведующий сектором в Институте ядерной физики СО АН СССР. Профессор Новосибирского университета. Владел несколькими языками.
Ю. Б. Румер – автор статей и монографий, сыгравших важную роль в развитии современной физики и посвященных вопросам квантовой механики, квантовой химии, статистической физики, общей теории относительности, теории элементарных частиц, прикладной механики, гидродинамики и молекулярной биологии. Его соавторами были В. Гайтлер, Э. Теллер, М. А. Марков, Л. Д. Ландау, А. И. Фет, М. С. Рывкин. Ру-мер увлеченно популяризировал важнейшие результаты современной физики. Одна из его самых известных книг – «Что такое теория относительности?», написанная совместно с Ландау, выдержала многочисленные переводы и издания: в библиотеке Ю. Б. Ру-мера их более двух десятков.
Основная и наибольшая часть архива Ю. Б. Румера, которая переносится в «Открытый архив СО РАН», хранится в Новосибирске в семье его дочери, Татьяны Юрьевны Михайловой, и составляет около двух тысяч документов. Типологическая систематизация документов выявила несколько групп: это воспоминания Ю. Б. Румера и о нем, письма, научные статьи, отзывы о научной деятельности, документы делопроизводства по вопросам обучения, реабили- тации, трудоустройства и трудовой деятельности, фотографии, газетные вырезки, рисунки и шаржи. БД «Открытый архив СО РАН» позволит систематизировать документы по типологическому, а также по тематико-хронологическому принципу.
Воспоминания Ю. Б. Румера, так называемые «пластинки», представляют собой транскрибированные записи его рассказов преимущественно о годах, проведенных в Геттингене. Существует несколько вариантов этих записей, сделанных разными собеседниками ученого. Разумеется, «пластинки», как всякие воспоминания, несут элемент субъективности, но своеобразная авторская стилистика делает их весьма любопытным документом эпохи. Юрий Борисович передавал свои впечатлениях о научной среде, быте, досуге Геттингена, о трагическом финале этого научного центра в годы фашизма. Он вспоминал о своих встречах с А. Эйнштейном, о работе с М. Борном, знакомстве с Л. Ландау и другими известными физиками.
Кроме геттингенских рассказов Румера, мы располагаем также его воспоминаниями о В. В. Маяковском и Л. Ю. Брик, записанными и транскрибированными новосибирским кинодраматургом и журналистом А. Г. Раппопортом. О. М. Брик приходился двоюродным братом Юрию Борисовичу, Л. Ю. Брик была дружна с его сестрой Елизаветой Борисовной, они вместе учились в гимназии Валицкой. Румер вспоминал о взаимоотношениях необычного треугольника Лили – Осип – Маяковский. В круге его воспоминаний также – Илья Эренбург, кузина которого была женой старшего брата Юрия – Осипа Борисовича; Василий Катанян, Илья Зильберштейн, Эльза Триоле. Дополняют устные рассказы Ю. Б. Румера его статьи для научных и научно-популярных журналов об Эйнштейне, Ландау и Борне, впервые собранные «под одной обложкой».
В свою очередь, воспоминания о Ю. Б. Ру-мере принадлежат его ученикам, коллегам и друзьям. Особо следует отметить воспоминания и отзывы людей, которые знали Ру-мера по совместной работе в «шарашках»: академика В. П. Глушко, чл.-корр. Б. С. Стечкина. Среди них также Николай Алексеевич Желтухин (1915–1994). Арестованный студентом третьего курса за «антисоветскую агитацию» в 1937 г., он мог погибнуть в лагерях, если бы не его письмо с изложением важного изобретения. Письмо попало к Стечкину и Румеру, в результате чего Желтухин был переведен в КБ. В дальнейшем Н. А. Желтухин – специалист в области механики и теплотехники, член-корреспондент АН СССР (1968), сотрудник СО АН СССР. Воспоминания Н. А. Желтухина записаны М. П. Рютовой-Кемоклидзе.
Ценные факты содержат также воспоминания Махмуда Мубаракшиевича Зарипова (1918–1998) – арестованный в начале войны, весной 1946 г. был направлен на работу в авиационное КБ Роберта Бартини. Он попал в бригаду вибраций самолета, начальником которой был Румер. Юрий Борисович стал для Зарипова педагогом по теоретической физике. После освобождения М. М. Зарипов защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, был заведующим кафедрой общей физики Казанского педагогического института. Его воспоминания о Ю. Б. Руме-ре написаны по просьбе Т. Ю. Михайловой, дочери Румера.
Переписка Ю. Б. Румера, которая составляет примерно треть архива, в немалой степени сложилась в результате знакомств, приобретенных до ареста. В числе адресатов и авторов переписки – немецкие физики Макс Борн, Виктор Вайскопф, Давид Шенберг, Фридрих Хундт, геттингенские друзья Ханна и Отто Хекманы. Первое письмо, отправленное Юрием Борисовичем М. Борну, датируется апрелем 1955 г. Оно содержит ответ учителю и поздравление по случаю присуждения ему Нобелевской премии. Борн сообщил об этом Румеру в письме от января 1955 г. Накануне 75-летнего юбилея М. Борна проф. Ф. Хундт обратился ко всем ученикам Борна с просьбой прислать фото и короткое поздравление с тем, чтобы собрать их в папку. В своем поздравлении Юрий Борисович писал: «Дорогой Профессор Борн, я сейчас немного старше, чем были Вы, когда мне посчастливилось стать Вашим учеником. Теперь вокруг меня молодежь, и я каждый день стараюсь быть по отношению к моим сотрудникам доброжелательным и дружелюбным так, как я этому научился у Вас, дорогой профессор Борн».
Фото Румера, посланное Борну, поразило его: «Когда в мой день рождения Фридрих Хунд вручил мне собрание фотографий бывших сотрудников, он сказал, что еще несколько фотографий будут добавлены позже. Теперь он прислал мне собрание в переплете вместе с недостающими фотографиями, где, к моей большой радости, была также и ваша фотография с очень славной подписью. Ваше лицо очень изменилось, в нем видно много страданий и большая сила воли. Сердечное Вам спасибо» (03. 02. 1958).
Помимо переписки Борна и Румера, которая хранится в семье Т. Ю. Михайловой, мы привлекли часть переписки М. Борна с А. Эйнштейном 1930-х гг., опубликованной на русском языке в 1972 г.: те письма, где упоминается Ю. Румер. Кроме того, внучка Румера Инна Сергеевна Михайлова, которая живет в Германии, обратилась к сыну М. Борна Густаву за разрешением на использование переписки Борна и Румера 1950–1960-х гг. Эти письма и их переводы будут опубликованы впервые.
Переписка Юрия Борисовича с отечественными физиками возобновилась сразу по окончании срока ареста (1948 г.). Е. Лифшиц и Л. Ландау взяли на себя нелегкий труд по опубликованию статей Юрия Борисовича, которые он подготовил в заключении (первая вышла в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» Т. 19, № 1, 1949 г.). На препринте из архива Ю. Б. Румера его рукой сделано посвящение Л. Д. Ландау – свидетельство трогательной дружбы двух незаурядных людей:
Тебе, но голос ферматиста
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою чистой Стремление духа моего?..
В это время Е. М. Лифшиц был членом редколлегии журнала. Он и Л. Д. Ландау много сделали для того, чтобы Румер не чувствовал себя в изоляции в ссылке. Они присылали ему книги, собирали деньги, когда Румер остался без работы, просто поддерживали добрым словом. Кроме того, Л. Д. Ландау официально приглашал Юрия Борисовича принять участие в планируемом им составлении «Курса молекулярной физики», предлагал ему написание глав, посвященных свойствам газов.
Среди адресатов периода ссылки физики М. А. Леонтович, М. А. Марков, В. А. Фок, И. Е. Тамм; подруга юности Т. А. Мартынова, родные, и Ольга Кузьминична Михайлова, невеста Румера. С ней он познакомился в Таганроге, куда был переведен в 1947 г.
Нельзя не упомянуть несколько писем акад. С. И. Вавилова, президента АН СССР, который принял участие в судьбе Румера и пытался помочь ему с работой. Нужно отдать дань мужеству этих людей, которых не смутили ни антисемитская кампания 1949 г., ни продолжение гонений в отношении Румера, заключение которого завершилось ссылкой и поражением в правах.
Переписка с Ольгой Кузьминичной Михайловой, в то время гражданской женой Ю. Б. Румера, содержит ценные свидетельства о быте ссыльно-поселенца в Енисейске. Юрий Борисович пишет из Енисейска об устройстве на работу, о жилье, ценах на продукты. Он провел в «золотой клетке» десять лет и теперь, еще не вполне свободный, он счастлив предстоящей встречей с любимой женщиной. В начале лета 1948 г. Юрий Борисович писал ей: «Дорогая моя Олечка! Хотя я и писал тебе из Ростова, чтобы ты ехала к моим, но дорогой несколько упал духом и не верил в эту возможность. Я страшно тосковал по тебе и боялся, что лишаюсь тебя, и жизнь показалась совсем бессмысленной. Телеграмма привела меня в неистовый восторг, в особенности, потому что получение телеграммы совпало с прояснившейся возможностью жить и устроиться. …Кроме того, я надеюсь, что ты привезла мои работы. Если Дау (Л. Д. Ландау. – И. К. ) нет в Москве (почему я не получил от него телеграммы?), то работы необходимо передать Леонтовичу (для печатания в журналах) и просить его сделать изложение результатов для предварительного сообщения в Докладах».
Ольга Кузьминична в это время находилась в Москве: она повезла статьи Румера о пятиоптике, рукописи которых ей удалось тайно вынести из КБ. Вскоре, навестив родных в Таганроге, она едет в Енисейск. В истории сталинской ссылки мы мало знаем примеров (возможно, они еще не освещены), когда молодая женщина последовала за своим опальным избранником. Ольге Михайловой было в то время 28 лет, она на 20 лет моложе Юрия Борисовича. Их брак был оформлен официально в силу разных причин только в 1970-е гг.
Письма второй половины 1950-х гг. по большей части принадлежат друзьям и знакомым, переписка с которыми не могла не навредить им, пока Румер был в опале. Продолжается эпистолярное общение с людьми, с которыми Юрий Борисович находился в заключении: венгром Карлом Сциллардом и Робертом Бартини – итальянским аристократом, ставшим советским авиаконструктором. В дальнейшем круг адресатов расширяется. Появляются новые знакомые, такие как Ангелина Васильевна Щекин-Кротова – искусствовед, четвертая жена художника Р. Р. Фалька. С ее помощью в период 1960–1990 гг. был организован ряд его персональных выставок, в том числе в новосибирском Академгородке. Первая выставка Р. Р. Фалька прошла здесь в 1965 г. Тогда и произошло знакомство, перешедшее в дружбу. Она была подкреплена общими московскими знакомствами: с прозаиком и переводчиком О. Г. Савичем и его женой Алей, Р. Я. Райт-Ковалевой – известной писательницей и переводчицей Ф. Кафки, Дж. Сэлинджера, А. Франк, Э. По и других писателей.
Переписка с московскими друзьями полна описаний культурной жизни столицы, что было немаловажно для жителей Академгородка, которые сами еще недавно покинули Москву. Т. А. Мартынова сообщала о первом публичном вечере Арсения Тарковского (1967 г.), Р. Я. Райт-Ковалева писала о работе над переводом Кафки, о кончине и похоронах И. Г. Эренбурга: «Похороны были какие-то странные – тысячная толпа, которую не пустили на кладбище, какие-то “не те” речи... » (письмо от 5 сентября 1967 г.).
В свою очередь, в письме Т. А. Мартыновой по этому поводу говорилось: «Вчера была на похоронах. Они на меня произвели ужасное впечатление. Говорят, что у нас нет традиций, – наоборот, начиная с Пушкина, традиция хоронить писателей на Руси сохраняется. Сделано было все, чтобы народу было мало, а его, т. е. народу было много, очень много. Оповестили поздно. Стоял гроб в доме литераторов на ул. Герцена. Народ в темпе прогоняли мимо гроба, – не задерживайся! В зале на митинге траурном могли присутствовать только члены Союза писателей и иностранцы, кое-кому удалось прорваться».
Внутри переписки можно выделить группы личной и научной корреспонденции, хотя это не всегда четкое разделение. К примеру, после выхода в 1966 г. фундаментальной статьи Румера о систематизации кодонов в генетическом коде [1966], его за- сыпали просьбами генетики из многих стран прислать оттиск этой работы. В связи с этим напомним, что Юрий Борисович был разносторонним ученым, часть его работ лежит вне области физики.
Часть карточек с обращениями о присылке препринтов сохранилась в семейном архиве, так же как и теплое письмо с положительной оценкой его идей от основоположника работ по расшифровке генетического кода, Нобелевского лауреата 1962 г. Френсиса Крика.
В начале 1950-х гг. сложились дружеские отношения Ю. Б. Румера и Е. Л. Фейнберга. Письма Евгения Львовича, который был на 11 лет моложе Румера, а в 1966 г. стал членом-корреспондентом АН СССР, тем не менее, преисполнены уважения к Ю. Б. Румеру и преклонения перед его опытом. Письма Евгения Львовича отвлекали Юрия Борисовича от мрачных мыслей, которые одолевали его в связи с тем, что он безуспешно пытался привлечь внимание коллег к своей пятиоптической теории (об этом мы расскажем ниже)
Так, в письме от 8 июня 1952 г. говорилось: «Я хорошо понимаю, как Вы должны быть огорчены непризнанием, или, точнее, полупризнанием труда, отнявшего у Вас столько сил и столько души. Но я не верю, что бы Вы всерьез могли бросить научную работу. Сейчас, когда в физике элементарных частиц происходят такие серьезные сдвиги, Вы, находясь на творческом подъеме, не можете отвернуться от физики. <…> Знаете ли Вы работы Гельфанда и его учеников по высшим спинам? Знаете ли Вы про новую физику релятивистской электродинамики и проблемы теории мезонов (работы Швингера, Дайсона, Томонаги, Галанина и т. д. и т. п.)? Конечно, знаете. Неужели они Вас не интересуют? Разумеется, пока Вы были взасос погружены в пятиоптику, ничто не могло Вас отвлечь. Но теперь Вы считаете основную работу по пятиоптике законченной. Как же можно продолжать отмахиваться от новых течений в физике?» Евгений Львович безоговорочно поддерживал Румера в его приверженности пятиоптической теории, пожалуй, он один на академической дискуссии 1952 г. задавал вопросы по существу проблемы. Мы располагаем свидетельствами переписки Румера и Фейнберга до 1978 г., когда Юрий Борисович из-за болезни уже не мог писать.
Тематическая группа документов, связанная с дискуссией о пятиоптике – теории, которая содержала подход к созданию единой теории поля, занимает одно из центральных мест в архиве Ю. Б. Румера. Цикл статей на эту тему был написан Румером в заключении. В 1949–1959 гг. опубликовано десять статей по пятиоптике в «Журнале экспериментальной и теоретической физики», издана монография, обобщающая полученные теоретические результаты. Продвигая идею пятиоптики, которую ученый считал делом жизни, он избрал типичный для того времени образ действия: обратился с письмом к И. В. Сталину. Известно, что письмо для Румера составил геолог Геннадий Львович Поспелов, который был человеком неравнодушным, отзывчивым. Он не мог смириться с тем, что такой специалист, как Румер, зарабатывает на жизнь переводами. И само письмо, и приложенные документы (статьи, отзывы), а также стенограмма дискуссии являются свидетельствами драматической истории, в которой сплетены нравственные, научные и житейские коллизии эпохи.
Дискуссия прошла в Москве 11 декабря 1952 г. с участием многих ведущих физиков и показала скептическое отношение большинства к идеям Ю. Б. Румера. И только через несколько лет после смерти Румера фиксированная размерность пространства – времени получила обоснование в теории струн. Об этом говорят в своих воспоминаниях ученики Румера: он воспитал замечательную плеяду физиков-теоретиков, среди которых В. Покровский, Ф. Улинич, М. Минц, А. Дыхне, А. Казанцев, Г. Сурдутович, С. Савиных, А. Чаплик, Э. Батыев, М. Энтин, И. Гилинский и др., многие оставили воспоминания о своем учителе и друг о друге.
После кончины И. В. Сталина произошли значительные изменения в жизни страны, многие узники ГУЛАГа обрели долгожданную свободу. Комплекс документов по реабилитации Ю. Б. Румера позволяет представить этот процесс как сложную бюрократическую процедуру. Уже в конце марта 1953 г. Румер был принят на работу в Отдел технической физики Западно-Сибирского филиала АН СССР. В начале 1954 г. им были поданы ходатайства в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой снять судимость и восстановить в правах, собраны научные характеристики (их дали Л. Д. Ландау и И. Е. Тамм), запрошены и получены справки УВД. Он обратился в Президиум Академии наук, ВЦСПС и другие инстанции с просьбой восстановить непрерывный трудовой стаж, звание доктора наук и профессора, назначить материальную компенсацию и т. п. Документы свидетельствуют, что продлилась эта процедура до конца 1954 г.
В 1957–1964 гг. Ю. Б. Румер являлся директором Института радиофизики и электроники СО АН СССР (ИРЭ). Этот период отражен в его личном архиве документами, представленными на выборы в АН СССР 1958 и 1962 гг.: характеристики научной деятельности, выписки из протоколов Ученых советов обсуждений и выдвижений его кандидатуры, письма поддержки выдвижения. Тогда впервые в истории Академии наук были выделены «сибирские» вакансии для ученых, согласных ехать в Новосибирск. Из 35 избранных академиков и членов-корреспондентов сибиряков было только шесть.
В нашем распоряжении находится письмо одного из учеников Юрия Борисовича, который присутствовал на Общем собрании АН в 1958 г. В этом письме отчасти раскрываются причины неизбрания Румера в члены-корреспонденты 1958 г., но по желанию автора мы не сможем его публиковать и цитировать. Для освещения этой страницы биографии ученого нам пришлось прибегнуть к привлечению материалов из Научного архива СО РАН, а также воспоминаний самого Румера и его коллег по ИРЭ.
История Института радиофизики и электроники СО АН СССР восходит к постановлению Президиума АН СССР 1955 г., в котором говорится о его создании еще в рамках Западно-Сибирского филиала АН СССР. Фактический год создания – 1957. ИРЭ просуществовал до 1964 г., когда на его основе был создан Институт физики полупроводников. Судьба института реконструируется в «Открытом архиве» на основе публикации документов из архива Т. Ю. Михайловой, Научного архива СО РАН и воспоминаний. Это неординарная история научного учреждения, важность создания которого подчеркивается тем фактом, что он появился ранее СО АН, для него строилось отдельное здание, завершенное в 1959 г. Об успешном развитии института на первых порах говорят документы различных проверяющих комиссий. Но с усложнением структуры и ростом возникают проблемы его управляемости у самого директора – Ю. Б. Румера. Он признает этот факт и, в конечном счете, отказывается от директорства. На данном этапе исследования мы не можем говорить определенно о характере взаимоотношений Ю. Б. Румера и председателя СО АН акад. М. А. Лаврентьева. Но нет сомнений в том, что они послужили тормозом в академической карьере Ю. Б. Румера.
Документы свидетельствуют, что Ю. Б. Ру-мер был выдающимся ученым, педагогом, популяризатором науки. Он был окружен молодежью, воспитал плеяду учеников. Учебники, написанные им и его соавтором М. С. Рывкиным, переиздаются поныне. Его студенты до сих пор с трепетом вспоминают, что будучи студентами Румера, они находились в одном рукопожатии от Эйнштейна. Знаменитая книга «Что такое теория относительности?» Ю. Б. Румера и Л. Д. Ландау, написанная ими еще до ареста, в 1935 г. и впервые изданная только в 1959 г., также будет помещена в Открытом архиве в нескольких ранних редакциях на русском и английском языках с согласия соответствующих издательств.
Нужно отметить еще один важный положительный момент в создании и функционировании интернет-ориентированной информационной системы: она может объединять документы из разных источников. В нашу систему мы введем материалы Архива МГУ, где по счастливой случайности сохранились студенческое дело Ю. Б. Румера (срок хранения 75 лет), его личное дело сотрудника Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР, материалы из личного дела Румера в архиве НГУ, личного дела из Института ядерной физики, Научного архива СО РАН. Документы из архива ФСБ нами не копировались, поскольку автоматическое копирование недопустимо. Их изучил сын Ю. Б. Румера М. Ю. Михайлов, им подготовлена статья на основе открытой части следственного дела.
На примере публикации в «Открытом архиве СО РАН» документов и воспоминаний, связанных с жизнью и деятельностью Ю. Б. Румера, впервые в истории СО АН мы можем открыто сказать о проблемах Отде- ления, связанных с ИРЭ. Ранее эта проблема не рассматривалась, поскольку не вписывалась в официальную концепцию успешного поступательного развития СО РАН. Но в последние годы появились публикации документов и воспоминаний (см.: [Городок.ru, 2003]), которые позволяют, не очерняя яркого прошлого новосибирского Академгородка, написать его живую историю, показать живых людей, непростые решения, противоположные стремления лидеров, дальновидные решения и просчеты.
ELECTRONIC ARCHIVES ON THE HISTORY OF SCIENCE
Список литературы Электронные архивы по истории науки
- Андрей Петрович Ершов - ученый и человек / Под ред. А. Г. Марчука. Новосибирск, 2006. 503 с.
- Биобиблиография А. П. Ершова. Новосибирск, 2009. 122 с.
- Городок.ru. Новосибирский Академгородок на пороге третьего тысячелетия. Воспоминания, размышления, проекты: Сб. ст. Новосибирск, 2003. 420 с.
- Крайнева И. А. Путь программиста (совм. с Н. А. Черемных). Новосибирск, 2011. 222 с.
- Румер Ю. Б. О систематизации кодонов в генетическом коде // Докл. АН СССР. 1966. Т. 167, № 6. С. 1393-1394.
- Krayneva I. Academician Andrei Ershov and His Archive. Perspectives on Soviet and Russian Computing. First IFIP WG 9. 7 Conference SoRuCom 2006. Petrozavodsk, Russia, July 3-7, 2006.
- Revised Selected Papers / Eds. J. Impagliazzo, E. Proydakov. Series: IFIP Advances in Information and Communication Technology. 2011. Vol. 357. P. 117-125.
- Tatarchenko K. A House with the Window to the West: The Akademgorodok Computer Center (1958-1993). 2006. URL: http://www. sigcis. org/files/Tatachenko. pdf