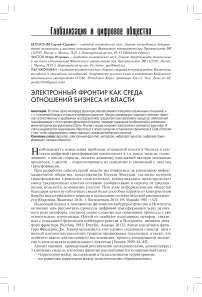Электронный фронтир как среда отношений бизнеса и власти
Автор: Белоконев Сергей Юрьевич, Чистов Игорь Игоревич, Пак Чжон Кван
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье через метафору фронтира рассматриваются вопросы социальных отношений, в т.ч. отношений бизнеса и власти в киберпространстве. Авторы анализируют подходы к понятию «фронтир» отечественных и зарубежных исследователей, предлагают рассматривать процессы электронной трансформации с точки зрения фронтирной теории, проводят сравнение особенностей и этапов развития исторических фронтиров США и России с ходом освоения электронного (сетевого) фронтира. В статье выдвигается предложение обратиться к опыту освоения исторических фронтиров в США и России с тем, чтобы сформировать новые подходы к освоению киберпространства.
Фронтир, электронный фронтир, метафора, киберпространство, цифровая трансформация, сетевое общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170171349
IDR: 170171349 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6719
Текст научной статьи Электронный фронтир как среда отношений бизнеса и власти
Н еобходимость осмысления проблемы отношений власти и бизнеса в контексте цифровой трансформации предполагает в т.ч. поиск модели, позволяющей, с одной стороны, описать динамику отношений акторов указанных процессов, с другой – спрогнозировать их поведение и связанный с ним ход трансформации.
При разработке описательной модели мы опираемся на концепцию информационного общества, предложенную Ëнэдзи Масудой, согласно которой трансформация процессов политической коммуникации предопределяет смену традиционных классов сетевыми сообществами и переход от традиционных моделей к демократии участия. При этом информационное общество благодаря качеству публичных связей будет способно перейти от конкурентной борьбы индустриального периода к принципам синергетической рациональности [Одинцов, Ващенко 2016: 3; Володенков 2015: 69; Masuda 1981: 152].
Подобный подход к пониманию феноменов киберпространства и Интернета позволяет нам рассмотреть процессы цифровой трансформации через различного рода метафоры, соотнося новые сложные для понимания процессы с уже относительно изученными. Одной из наиболее популярных метафор, связанных с описанием феноменов киберпространства и Интернета, является метафора фронтира [Sterling 1993; Dreyfus, Assange 2012]. Автор концепции фронтира Фредерик Дж. Тернер вкладывал в этот термин следующие смыслы: зона с низкой плотностью населения, граница продвижения поселенцев, а также, что особенно важно для настоящего исследования, процесс непрерывной экспансии и зона контакта цивилизации с дикостью [Тернер 2009: 44-45].
Анализ термина, проведенный российскими исследователями, демонстрирует 3 ключевых смысла, в которых фронтир рассматривается в современной науке:
– «территория между заселенными и незаселенными территориями;
– пограничная территория между политическими образованиями;
– метафора нового и непонятного» [Романова, Якушенков 2012: 75].
Применение понятия «фронтир» в качестве метафоры хода цифровой трансформации опосредует использование представлений о подвижной границе-линии между новым и старым, известным и непонятным, современным и архаичным.
В дальнейшем мы будем опираться на определение фронтира, предложенное Д.С. Панариной, которая предлагает выделить следующие аспекты понятия:
-
– «линия, обозначающая пределы военного завоевания;
-
– контур определенной территории;
-
– линия, фиксирующая политические границы суверенного государства;
-
– линия взаимодействия и символического противопоставления антиподов;
– зона с постоянно меняющимися условиями существования и развития общества» [Панарина 2010: 82].
Такое понимание фронтира дает возможность использовать термин для интерпретации различных аспектов цифровой трансформации и развития сети Интернет, таких как установление государственной юрисдикции в национальных сегментах сети, распространение влияния тех или иных сетевых сообществ и институтов, динамика политических и социальных дискуссий в сетевом пространстве и внедрение цифровых технологий в экономике и политическом управлении.
Продуктивность метафорического подхода в описании киберпространства подчеркивает работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона, представляющая 3 вида метафор, позволяющих описывать сетевое пространство: ориентационные, призванные структурировать новые категории в терминах пространственных ориентаций («я онлайн», «я в сети»); структурные, апеллирующие к известным из опыта категориям («чат»); онтологические, придающие виртуальным связям между узлами сети качество пространственных категорий («киберпространство) [Лакофф, Джонсон 2004: 51-52].
Фронтир как подвижная граница занимает промежуточное положение между структурными и онтологическими метафорами. Электронный фронтир может рассматриваться как динамическая граница освоения пространства цифрового (сетевого) общества, проницаемость и подвижность которой коррелирует с уровнем IT -грамотности, цифровых компетенций пользователей, со степенью распространения компьютерных технологий, онлайн-ресурсов, сетевых структур и практик [Плотничкина 2018: 81].
Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой фронтир может пониматься как «процесс и результат социального конструирования реальности, в связи с чем его представленность имеет непосредственное отношение к ментальной сфере» [Басалаева 2012: 47]. С данной точки зрения мы предлагаем рассматривать трансформацию социальных и политических институтов в пространстве электронного фронтира.
Использование метафоры фронтира в отношении цифровой трансформации и освоения киберпространства предопределяет восприятие электронного фронтира в качества места складывания нового общества [Тернер 2009: 93]. Следует отметить, что подвижная граница фронтира является контактной зоной, в которой социокультурные практики сетевого общества встречаются с цивилизационными и социокультурными практиками общества информационного. Цифровая трансформация представляет собой процесс перехода от информационного общества к сетевому, который на начальном этапе отражается в образовании сетевых фронтирных зон, опосредующих формирование сетевых институтов и структур, которые в процессе расширения объединяются в единое сетевое пространство [Мирошниченко, Морозова 2016: 37].
Фронтир представляет собой не только подвижную границу-линию, смещающуюся в глубь осваиваемой территории, т.е. это явление не только пространственное и политическое, но и социальное – зона освоения. При этом линейные и зональные характеристики границы различаются, линейные административные и политические разделители не всегда совпадают с культурносимволическими, т.е. зональными. Зональность электронного фронтира, его неоднородность хорошо иллюстрирует различия в уровне проникновения цифровых технологий и уровне IT -компетенций, а также соотношение формальной и фактической юрисдикции государства в киберпространстве.
Пионерами электронного фронтира стали американские ученые-инженеры, большинство из которых имели отношение к обороне; в качестве «поселенцев» могут рассматриваться ученые гражданских учреждений, для которых сеть стала важным способом оперативной коммуникации и обмена данными; третьей волной в сеть пришли интернет-предприниматели. Здесь нужно дополнительно отметить зональный характер электронного фронтира – другими словами, в ходе процессов глобализации переход к сетевому обществу на уроне государств проходит с разной интенсивностью, а лидирующие позиции в освоении электронного фронтира в настоящее время принадлежат США. Метафора фронтира для описания отношений в киберпространстве не случайно наиболее популярна в среде американских исследователей: сама концепция, впервые предложенная Ф. Дж. Тернером, как и создание сети Интернет, – результат деятельности американских ученых. При этом успешность освоения США сетевого пространства и ход цифровой трансформации в России приводит к выводу о необходимости сравнения отечественных и североамериканских фронтирных практик.
Для интерпретации отношений власти и бизнеса в контексте цифровой трансформации особенно важно, что киберпространство первоначально представляет собой среду, где часто не действуют правила и нормы «реального» пространства: освоение киберпространства и новых технологий сбора и передачи информации предопределяет необходимость законодательного регулирования новых возможностей и отношений. Помимо этого следует отметить, что киберпространство принесло первопроходцам значительные экономические возможности подобно тому, как освоение западных территорий США обогатило наиболее удачливых поселенцев.
Метафора фронтира в отношении Интернета предполагает в американской историографии образ обширного неисследованного пространства, где «центральное место занимают принципы самоорганизации и саморегулирования, вырабатываемые по мере движения на запад. Первопроходцам самим приходилось создавать социальные нормы и формировать институты» [Довбыш 2016: 104]. При этом центральная власть не могла эффективно использовать на этих территориях механизмы принуждения и господства. Такая ситуация открывала для поселенцев широкие возможности самореализации и предоставляла им значительную свободу. Здесь можно заметить сходство с начальным этапом развития сети Интернет, на котором специальное законодательство, регулирующее деятельность в киберпространстве, еще не было создано, а институты управления сетью создавались ее инженерами-разработчиками.
Тернер считал ключевым условием зарождения американской демократии огромные территории свободных земель, к которым стремились колонисты в надежде на лучшую жизнь. Идеи свободного счастливого общества, которые несет американское общественное сознание, как и мессианские идеи распространения американского образа жизни на весь мир посредством демократии, связаны именно с идеалом фронтира. Тернер следующим образом описывает «идеалы пионеров, в значительной степени ставшие идеалами нации:
-
– идеал открытия и завоевания в борьбе с природой и дикостью;
-
– идеал личностного развития, свободного от социального и правительственного ограничения;
– идеал демократии» [Панарина 2010: 86-87].
Принципы, декларируемые создателями сети Интернет, во многом соответствовали идеалам американских пионеров. «Технологические принципы Интернета – отсутствие иерархии, открытость, ориентированность на персональных пользователей – способствуют созданию единого сообщества, представляющего собой сеть без коммуникативных разрывов» [Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2016: 85].
В то же время освоение фронтирных зон в Сибири, на Нижней Волге, Кавказе и Дальнем Востоке России проходило в иных условиях, в первую очередь это касается менее обширных экономических возможностей поселенцев и значимой роли центральных властей в жизни фронтира. Сравнение американского фронтира с ситуацией на Нижней Волге демонстрирует следующие важные особенности.
-
« В России никогда не было предфронтира, т.е. ситуации, аналогичной той, когда на территории индейских племен существовали лишь немногочисленные фактории пионеров, первопроходцев-охотников. На этой территории уже существовали государственные образования (Астраханское ханство, Большая и Малая Ногайские Орды).
К созданию фортов Америка подошла относительно поздно, в то же время Россия вынуждена была создавать свои крепости сразу после перехода этой территории под ее контроль» [Якушенков, Якушенкова 2010: 113-114].
Указанные выше особенности освоения российского исторического фронтира нашли свое отражение и в отечественной практике освоения киберпространства.
В силу исторических обстоятельств на начальном этапе развития электронного фронтира отечественные акторы практически не принимали в нем участия. Формирование ключевых институтов, опосредующих деятельность глобальной сети, проходило без участия России. В то же время интенсивность законотворческого процесса в сфере регулирования киберпространства, учреждение отечественных институций, ответственных за это, и, прежде всего, выход на международный уровень ряда отечественных интернет-компаний свидетельствует о высокой интенсивности освоения Россией киберфронтира.
Продолжая сравнение западных и отечественных фронтирных практик, следует сосредоточиться на ключевой для исторического фронтира категории свободных земель. В отношении электронного фронтира метафорой «свободных земель» может, на наш взгляд, выступать отсутствие или минимизация правового регулирования сети. Следует отметить, что в США, несмотря на ряд ограничений, введенных после принятия Patriot Act , законодательство, регулирующее киберпространство и новые информационные технологии, вводит минимум ограничений; и на протяжении многих лет специальные законы, регулирующие интернет-пространство, не принимались, что вполне соответствует духу американского фронтира. При этом, подобно удачливым предпринимателям эпохи освоения Запада, американские интернет-магазины получали многолетние налоговые каникулы.
Российский опыт освоения электронного фронтира указывает на патерналистскую модель деятельности государства, что отражается как в оперативном формировании обширной законодательной базы, регулирующей интернет-пространство, и создании соответствующих институтов, так и в стремлении контролировать деятельность отечественной интернет-индустрии.
Использование метафоры фронтира для описания проблематики цифровой трансформации позволяет, с одной стороны, воспринимать стоящие перед обществом и государством вызовы как пространство возможностей и экспериментов, с другой – обратиться к историческому опыту освоения новых пространств с тем, чтобы использовать наиболее удачные паттерны из отечественного и зарубежного опыта.
В силу ряда особенностей данной среды освоение киберпространства имеет преимущественно не линейный, а отмеченный выше зональный характер: нелимитированность киберпространства предоставляет возможность размещать не ограниченный по объему и форматам контент, а таргетированность позволяет индивидуализировать данный контент в соответствии с ожиданиями конкретного пользователя. Таким образом, электронное фронтирное пространство предоставляет практически неисчерпаемые возможности для конструирования сетевых идентичностей и перераспределения ролей. Изменчивость сетевого фронтира связана также с открытой архитектурой сети и динамикой развития цифровых технологий.
Модернизированные образы фронтира организуют символическое пространство и имеют мобилизационную функцию в американской культуре. Результаты опроса1, проведенного среди американских детей, свидетельствуют, что большинство из них мечтают стать блогерами. Не удивительно, что воспитанные на образах супергероев американцы стремятся в пространство электронного фронтира с его неограниченными возможностями по конструированию идентичностей и самореализации. Такое положение – не что иное, как отражение идеала американцев, сосредоточенное в пространстве электронного фронтира.
В России, в свою очередь, не до конца преодоленный кризис идентичности позволяет пересмотреть отношение к фронтирным ситуациям, отказаться от восприятия электронного фронтира как источника опасности и выстраивать отношения власти и общества в этом пространстве (другими словами, воспроизводить и реализовывать фронтирные роли) на принципах синергетической рациональности.
Список литературы Электронный фронтир как среда отношений бизнеса и власти
- Басалаева И.П. 2012. Критерии фронтира: к постановке проблемы. - Теории и практики общественного развития. № 2 С. 46-49
- Володенков С.В. 2015. Технологии интернет-коммуникации в системе современного политического управления: дис. … д.полит.н. М. 441 с
- Довбыш Е.Г. 2016. Электронный фронтир как метафора. - Журнал фронтирных исследований. № 1. С. 100-115
- Лакофф Дж., Джонсон М. 2004. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС. 256 с
- Мирошниченко И.В., Морозова Е.В. 2016. Трансформация политических институтов в пространстве сетевого фронтира. - Politbook. № 3. С. 36-49