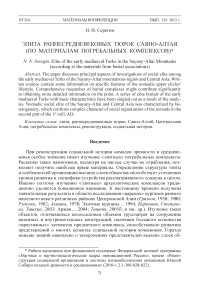Элита раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая (по материалам погребальных комплексов)
Автор: Серегин Н.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 229, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные аспекты исследований социальной элиты среди ранних средневековых турок Саяно-Алтайского горного региона и Средней Азии. В источниках Writ-ten содержится некоторая информация о специфических особенностях стиля кочевых верхних кругов. Всесторонние исследования погребальных комплексов могут внести существенный вклад в получение более подробной информации по этому вопросу. В результате анализа выделена серия элитных захоронений раннемедийных турок с основными характеристиками. Кочевая социальная элита Саяно-Алтайской и Средней Азии характеризовалась неоднородностью, которая подтверждает сложный характер социальной организации кочевников во второй половине 1-го стана. ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Элита, раннесредневековые тюрки, саяно-алтай, центральнаяазия, погребальные комплексы, реконструкция, социальная история
Короткий адрес: https://sciup.org/14328539
IDR: 14328539
Текст научной статьи Элита раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая (по материалам погребальных комплексов)
При реконструкции социальной истории номадов древности и средневековья особое значение имеет изучение «элитных» погребальных комплексов. Раскопки таких памятников, несмотря на частые случаи их ограбления, позволяют получить наиболее яркие материалы. Определение структуры элиты и особенностей организации высших слоев общества способствует уточнению уровня развития и специфики устройства рассматриваемого социума в целом. Именно поэтому изучению «элитных» археологических комплексов традиционно уделяется повышенное внимание. К настоящему времени получены значительные результаты в области исследования «царских» курганов раннего железного века в различных районах Центральной Азии (Грязнов, 1950; 1980; Руденко, 1962; Акишев, 1978; Элитные курганы… 1994; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003; Аржан… 2004; Тишкин, 2005б; и мн. др.). Изучение таких объектов, отличавшихся колоссальным объемом трудозатрат на сооружение наземных и внутримогильных конструкций, наличием большого количества «престижных» элементов предметного комплекса, способствовало развитию представлений о многих аспектах социальной истории кочевников. Гораздо меньше знаний накоплено о захоронениях представителей высших слоев об- ществ средневековых номадов обозначенного региона. В настоящей работе представлен опыт интерпретации материалов раскопок «элитных» погребальных памятников тюркской культуры Саяно-Алтая (вторая половина V – XI в.). Некоторые результаты работы в этом направлении уже отражены в ряде публикаций (Серегин, 2009б; 2010в), здесь они приведены в дополненном и переработанном виде.
Историография
Существование высших слоев общества традиционно наиболее подробно представлено в письменных источниках. Такая ситуация характерна не только для объединений номадов различных исторических периодов ( Селезнев , 2009. С. 7), но и в целом является вполне закономерной. В рунических текстах и китайских династийных хрониках имеется значительное количество информации о структуре элиты раннесредневековых кочевников, специфике титулатуры, организации управления. Вместе с тем, эти данные относятся главным образом к истории центра империй номадов. Политические и социальные процессы, происходившие на периферии объединений раннесредневековых тюрок, в том числе в Саяно-Алтае, освещены в письменных источниках второй половины I тыс. н. э. весьма фрагментарно. Кроме того, в имеющихся документах охарактеризован лишь период гегемонии тюрок в степях Центральной Азии, в то время как дальнейшая история кочевников данной общности в составе каганатов уйгуров и кыргызов практически не представлена. В связи с этим основным источником для реконструкции социальной структуры и организации населения тюркской культуры, а также рассмотрения специфики существования элиты номадов являются погребальные комплексы. Количество подобного рода объектов, раскопанных в Монголии – центре политических объединений раннесредневековых кочевников, весьма ограниченно. Основная масса захоронений тюркской культуры исследована на территории Саяно-Алтая.
Целенаправленной обобщающей работы, посвященной социальной интерпретации материалов раскопок погребальных комплексов тюркской культуры, а также выделению и характеристике «элитных» памятников данной общности до сих пор не предпринималось. Вместе с тем в ряде исследований отечественных археологов представлены ценные замечания по этому поводу. Одним из первых специалистов, осуществивших попытку реконструкции структуры тюркского общества на основе изучения погребальных комплексов, стал С. В. Киселев (1951. С. 530–544). Материалы, использованные исследователем, весьма немногочисленны, однако ограниченность источниковой базы не помешала ему сделать ряд достаточно обоснованных наблюдений. Известные археологу погребения тюркской культуры, главным образом из собственных раскопок, были разделены на три группы и скоррелированы с основными слоями социума кочевников (Там же). К третьей группе объектов С. В. Киселев отнес наиболее «богатые» курганы. «Элитные» погребения, по мнению исследователя, отличались размерами наземных и сложностью внутримогильных конструкций, определенной спецификой ритуала и разнообразным инвентарем, включавшим различные категории вещей (Киселев, 1951. С. 535). С. В. Киселев предположил, что эти признаки свидетельствуют о принадлежности курганов «алтайской знати» (Там же. С. 544).
В последующие годы при интерпретации захоронений тюркской культуры, раскопанных главным образом на Алтае и в Туве, археологи сделали ряд наблюдений, касающихся социальной дифференциации общества раннесредневековых тюрок, которая получила отражение в материалах погребальных комплексов ( Грач , 1958. С. 34; Гаврилова , 1965. С. 39; Трифонов , 1971. С. 122; 1975. С. 193; Длужневская , 1976; Овчинникова , 1983. С. 65; 1984. С. 220–221). Важным результатом стало обозначение социально значимых предметов сопроводительного инвентаря ( Кызласов , 1951; Добжанский , 1990. С. 73–80; Горбунова , 2004. С. 18). В. В. Горбунов (2007) на основе анализа комплекса вооружения из погребений тюркской культуры Алтая выделил группы захоронений и соотнес их с конкретными уровнями военной иерархии раннесредневековых номадов. Накопленные сведения позволили поставить вопрос о выделении «элитных» объектов на различных территориях ( Тетерин , 1999; Кубарев Г., Кубарев В. , 2003), хотя подробной характеристики отличительных показателей таких памятников, а также их интерпретации представлено не было.
Опыт работ отечественных исследователей, новые результаты анализа захоронений номадов второй половины I тыс. н. э., полученные в последние годы, позволяют рассматривать вопросы, связанные как с реконструкцией социальной структуры населения тюркской культуры Саяно-Алтая, так и с выделением и интерпретацией «элитных» погребальных комплексов кочевников, на качественно новом уровне.
Методика исследования
Объективность результатов в значительной степени зависит от корректности выбранной методики исследования. При разработке программы социальной интерпретации материалов раскопок погребальных комплексов тюркской культуры Саяно-Алтая принимались во внимание как многочисленные теоретические разработки ( Массон , 1976; Алекшин , 1981, 1986; Добролюбский , 1982; Генинг и др. , 1990; Ольховский , 1995; Васютин , 1998; Васютин, Дашковский , 2009; и др.), так и обширный практический опыт в этом направлении ( Матвеева , 2000; Тишкин, Дашковский , 2003; Крадин, Данилов, Коновалов , 2004; Кондрашов , 2004; Матренин , 2005; и др.).
Другим важным фактором стали выявленные особенности имеющейся источниковой базы. Ряд обстоятельств (ограбленность объектов, редкость антропологических определений, неравномерность распределения числа исследованных захоронений в рамках различных хронологических этапов и др.) определяют ограниченность количества памятников, используемых в ходе анализа. Основой для изучения стали 204 погребения, исследованные на территории Алтая (95), Тувы (48) и Минусинской котловины (61). Основным фактором отбора памятников из общего количества исследованных на сегодняшний день могил (более 300) стала возможность определения пола умершего, что является необходимым условием для полноценной социальной интерпретации погребений. К сожалению, количество антропологических определений для захоронений тюркской культуры Саяно-Алтая, несмотря на наличие специальных работ (Алексеев, 1960; Богданова, 1980; Поздняков, 2006), весьма незначительно. В связи с этим формирование выборки для последующего анализа происходило следующим образом. На первом этапе было осуществлено изучение погребений, для которых имеется антропологическое определение пола умершего. Результатом стало выделение устойчивых признаков обряда, характерных для мужских и женских могил. Далее на основе полученных данных из общего количества раскопанных объектов тюркской культуры Саяно-Алтая были выделены погребения, материалы которых содержат такие устойчивые сочетания показателей, позволяющие определить пол умершего человека. Следует отметить, что учитывались только неграбленые захоронения, а также частично потревоженные объекты, для которых сохранились характеристики, необходимые для полноценного анализа. В итоге учтены 133 могилы, определенные как мужские, 40 женских погребений и 31 детское.
Комплексная социальная интерпретация материалов раскопок погребальных комплексов предполагала последовательную реализацию трех основных этапов исследования. Первый этап заключался в рассмотрении горизонтальной стратификации общества кочевников, нашедшей отражение в половозрастной дифференциации погребальной обрядности ( Серегин , 2010б). Выделение признаков, вариабельность которых связана с полом и возрастом погребенных, позволило перейти к обозначению социально обусловленных элементов обряда ( второй этап ). Наконец, третий этап заключался в интерпретации полученных результатов. Моделирование социальной структуры и организации населения тюркской культуры Саяно-Алтая предполагало выделение социально-типологических групп в рамках рассматриваемой совокупности погребений и их характеристику. Не останавливаясь на описании всех результатов исследования, сконцентрируем внимание на выводах, связанных с определением отличительных признаков «элитных» погребальных комплексов и интерпретацией зафиксированных показателей.
«Элитные» погребальные комплексы
Существенным показателем, который был выявлен в ходе анализа погребальной практики населения тюркской культуры Саяно-Алтая, является значительная степень нивелировки обряда. Это проявилось не в унификации и стандартизации сооружений, ритуала и предметного комплекса, которые были достаточно вариабельными (Серегин, 2009а; 2010а; и др.), а в стирании резких границ между погребениями по признакам, которые традиционно рассматриваются как социально значимые. Так, выдающиеся параметры каменной насыпи и внутримогильных конструкций, являющиеся одним из ключевых показателей «царских» курганов раннего железного века, не характерны для «элитных» комплексов раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая. Анализ размеров погребальных сооружений населения тюркской культуры показал, что их вариабельность определялась главным образом причинами, не связанными с прижизненным социальным статусом умершего. Некоторое значение имели специфика природно-климатических условий конкретных районов и сезон совершения погребения. К примеру, создание необходимой по размерам могильной ямы могло быть затруднено каменистой почвой, тем, что земля была промерзшей и т. д. Другим фактором была замкнутость отдельных локальных групп номадов, различная родовая принадлежность кочевников. Определенное значение могла иметь датировка памятников, что отражает существование различных традиций в конкретные хронологические периоды. Так, насыпи курганов раннего кызыл-ташского этапа тюркской культуры нередко представляют собой небольшую однослойную наброску, подобную надмогильным сооружениям, исследованным на известном некрополе Кудыргэ (Гаврилова, 1965). Достаточно четко фиксируются меньшие размеры значительного количества курганов тюркской культуры Минусинской котловины по сравнению с объектами Алтая и Тувы. Таким образом, параметры наземных и внутримогильных сооружений являлись второстепенным показателем при выделении «элитных» погребений. Такие объекты, хоть и отличались от основной массы памятников, особенно в рамках отдельных некрополей, но отклонения были незначительными.
Другим показателем, выделяющим захоронения представителей высших слоев общества, было количество лошадей, сопровождавших умершего. Анализ признаков половозрастной дифференциации в погребальном обряде населения тюркской культуры продемонстрировал, что наличие одного животного было непременным атрибутом могилы полноправного взрослого человека. Вариабельность количества коней определялась имущественным статусом кочевника. В немногочисленных «элитных» погребениях находились три или четыре лошади. С другой стороны, в ряде захоронений, которые по ряду других признаков могут быть связаны с представителями высших слоев общества, находились один или два коня, что характерно и для «рядовых» могил. Поэтому этот компонент обряда также не может рассматриваться как абсолютный показатель «элитных» объектов.
Комплексное изучение материалов раскопок погребальных памятников тюркской культуры Саяно-Алтая позволяет утверждать, что основным критерием для определения прижизненного статуса человека является качественноколичественный состав сопроводительного инвентаря, зафиксированного рядом с умершим. Корректное определение социальной значимости конкретных групп предметов не может быть интуитивным или основываться только на рассмотрении частоты встречаемости находок. Необходим учет комплекса показателей и привлечение дополнительных источников и материалов. Основными являются следующие факторы: 1) материальная ценность предметов; 2) символическая значимость вещей; 3) закономерности распределения изделий в погребениях и особенности распространения конкретных находок; 4) общие тенденции развития кочевых обществ центрально-азиатского региона в раннем средневековье («престижная» экономика, роль военного дела, направления торговых связей и др.).
Обоснованным является выделение из совокупности предметов сопроводительного инвентаря «комплекса власти», включающего показатели военно- управленческого могущества и политического статуса, и «комплекса богатства», объединяющего признаки высокого имущественного положения, материального достатка. Такой подход, опыт теоретического осмысления и практической реализации которого представлен в ряде исследований (Васютин, 1998. С. 18; Кондрашов, 2004. С. 20; Матренин, Тишкин, 2005. С. 179), не только позволяет корректно оценить значимость рассматриваемых предметов, но также на последующих этапах работы способствует осуществлению объективной интерпретации как отдельных погребений, так и выделенных групп объектов. «Комплекс власти» в обществе кочевников тюркской культуры был представлен главным образом предметами вооружения (меч, кинжал, копье, боевой топор, доспех), а также, в меньшей степени, плетьми, стеками и котлами. «Комплекс богатства» включал предметы торевтики из цветных и драгоценных металлов: наборные пояса, металлические сосуды и зеркала, украшения конской амуниции, украшения костюма, а также шелковую одежду.
В результате проведенного многоступенчатого анализа материалов раскопок некрополей тюркской культуры, предполагавшего последовательную корреляцию всех показателей обряда, но главным образом тех, которые были определены как социально значимые, выделены социально-типологические модели. Каждая из них отличается определенным набором маркирующих ее признаков. Для объектов, объединенных в рамках отдельных социально-типологических групп, отмечена высокая степень унификации показателей, характерных для каждой из моделей. Вариабельность признаков в целом незначительна. Выделены девять мужских, четыре женские и три детские социально-типологических модели. Часть из них демонстрирует признаки, характерные для «элитных» погребений тюркской культуры Саяно-Алтая.
Наиболее полная картина дифференциации общества раннесредневековых номадов получила отражение в материалах мужских захоронений. Из девяти выделенных социально-типологических моделей с погребениями элиты различного уровня могут быть связаны первые три. Представим краткую характеристику отнесенных к ним объектов.
-
I. Основным показателем погребений, объединенных в рамках первой модели, является максимальный по количеству и разнообразию состав сопроводительного инвентаря. Во всех могилах присутствовали наборный пояс, дополнительные аксессуары костюма и украшения конской амуниции, изготовленные с использованием драгоценных металлов, а также серебряные сосуды. Кроме того, зафиксированы серьги, фрагменты шелка, плеть или стек и железный котел. Вариации наблюдаются в составе предметов вооружения; объяснение им приведено ниже. Погребенного сопровождали две, три или четыре лошади, что является максимальным количеством животных, обнаруженных в памятниках тюркской культуры. Показательны также выдающиеся параметры курганных насыпей и могильных ям.
Всего к первой модели отнесены 3 объекта – Балык-Соок I (курган 11) (Кубарев Г., Кубарев В., 2003); Курай IV (курган 1); Туекта (курган 3) (Евтюхова, Киселев, 1941), - что составляет 2,25 % от всех рассмотренных мужских погребений. Кроме того, к данной группе представляется возможным причислить не- которые ограбленные памятники, не включенные в число анализируемых объектов, однако учитываемые при определении общих тенденций социальной истории тюрок Саяно-Алтая. Таковы, в частности, курган 21 комплекса Маркелов Мыс I (Тетерин, 1999) и курган 34 некрополя Маркелов Мыс II (Митько, 1999), исследованные в Минусинской котловине. Эти объекты выделяются монументальностью наземных сооружений, особенностями планиграфического расположения на могильном поле, а также присутствием в составе сопроводительного инвентаря предметов торевтики, изготовленных с использованием драгоценных металлов. По ряду признаков к первой модели, скорее всего, относится и ограбленное погребение кургана 3 могильника Курай IV, раскопанное на территории Алтая (Евтюхова, Киселев, 1941. С. 113).
-
II. В ходе исследования погребений, отнесенных ко второй модели, зафиксировано сочетание редких предметов вооружения (клинковое оружие, топор, защитный доспех) с предметами торевтики, изготовленными в большинстве случаев с использованием драгоценных металлов. Почти во всех могилах этой группы отмечены фрагменты шелка. Более редки находки стеков (два случая), а также металлического сосуда и железного котла, встреченных по одному разу. В целом, по качественному и количественному составу сопроводительный инвентарь рассматриваемых объектов уступает вещевому комплексу, обнаруженному в памятниках, отнесенных к первой модели. Кроме того, в могилах второй группы чаще всего присутствовала одна лошадь и только дважды исследованы погребения с двумя захороненными животными. По размерам наземных и подкурганных конструкций объекты выделяются только в рамках отдельных некрополей и то не во всех случаях. Ко второй социально-типологической модели отнесено 7 (5,25 %) погребений: Джолин I, курган 9 ( Кубарев , 1992); Кара-Коба I, курган 85 ( Могильников , 1997); Кудыргэ, курган 9 ( Гаврилова , 1965); Узунтал I, курган 2, погребение 1 ( Савинов , 1987); Узунтал V, курган 2 ( Савинов , 1982); Аймырлыг-У-1 ( Овчинникова , 1982); Мойгун-Тайга-58-IV ( Грач , 1960б). Отметим, что помимо «стандартных» захоронений в данную группу включены два кенотафа.
-
III. Для погребений третьей модели характерны минимальный набор вооружения (лук и стрелы или даже один из указанных элементов оружия дистанционного боя) и в то же время весьма показательный состав предметов торевтики. Во всех объектах зафиксированы наборный пояс и/или украшения конского снаряжения, а также дополнительные аксессуары костюма, изготовленные с использованием драгоценных металлов. Во всех могилах встречены фрагменты шелка. В одном из мужских погребений отмечено присутствие металлического китайского зеркала в сочетании с железным котлом. Умерших сопровождало чаще всего одно животное; в трех случаях в могиле находились две лошади. К третьей социально-типологической модели отнесено 8 (6%) погребений, в том числе один кенотаф: Ак-Кообы; Барбургазы II, курган 9; Юстыд I, курган 8); Юстыд XII, курган 29; Юстыд XXIV, курган 13 ( Кубарев , 2005); Бай-Тайга-59-1 ( Грач , 1966); Мойгун-Тайга-57-XXVI ( Грач , 1960а); Мойгун-Тайга-58-V ( Грач , 1960б).
Рассмотренные социально-типологические группы включают 18 погребений, что составляет 13,5 % от всех учтенных мужских захоронений. Вероятно, именно такой процент населения тюркской культуры Саяно-Алтая относился к элитным слоям общества номадов. Осмысление результатов, полученных в ходе социальной интерпретации материалов раскопок, предполагает привлечение сведений из письменных источников. Наибольший интерес представляет информация, в той или иной степени относящаяся к истории периферии кочевых империй раннесредневековых тюрок.
В китайских династийных хрониках аппарат управления тюркской империи представлен как достаточно сложная система. В частности, упоминаются 28 основных должностей чиновников, из которых пять были высшими ( Кычанов , 1997. С. 102; Жумаганбетов , 2003. С. 184–185). На отдельных территориях державы номадов находились наместники кагана, выполнявшие основные управленческие функции ( Кычанов , 1997. С. 103, 104). Согласно имеющимся сведениям, на завоеванных землях тюрки оставляли прежние формы самоуправления, устанавливая контроль лишь над фискальной системой и военной организацией подвластного социума ( Жумаганбетов , 2003. С. 191). По всей видимости, в этих областях оставалась местная знать, которая нередко стремилась для сохранения власти и поднятия престижа породниться с аристократией этноса-элиты (Там же. С. 166). Главы крупных племен (в большинстве случаев телеских), подчиненных тюркам, получали титулы эльтебер и иркин ( Берн-штам , 1946. С. 144; Кычанов , 1997. С. 105; Горбунов , 2007. С. 90). В целом, представляется возможным говорить о существовании на подобных территориях так называемой двойной элиты ( Тишкин , 2005а. С. 53, 54).
В письменных источниках достаточно четко обозначен военно-административный характер управления в тюркских каганатах ( Кычанов , 1997. С. 113). Согласно имеющимся сведениям, практически все высшие должностные лица были командующими военных подразделений различного уровня ( Горбунов , 2007. С. 86–88). На наш взгляд, данная ситуация не является объективной и соответствующей достаточно высокому уровню развития империй номадов второй половины I тыс. н. э. В сложно организованных политических объединениях военная и управленческая власть, как известно, не могла быть сосредоточена в одних руках. Необходим был разветвленный аппарат «чиновников», деятельность которых не была связана непосредственно с военным делом. Данный тезис находит подтверждение в результатах анализа погребальных комплексов мужского населения тюркской культуры Саяно-Алтая.
При выделении социально-типологических моделей погребений достаточно четко обозначилась не только имущественная дифференциация населения, но также различия в профессиональной деятельности умерших. Прежде всего обратим внимание на памятники «высшей» элиты (группа I). Даже на материалах трех погребений, объединенных в рамках этой модели, фиксируется принадлежность умерших к двум основным «ветвям» элиты номадов – военной и той, которую можно условно обозначить как управленческую, или «чиновничью». Различное прижизненное положение людей отражено главным образом в соотношении предметов вооружения и «комплекса богатства». В погребениях кургана 1 могильника Курай IV и кургана 3 некрополя Туэкта минимальное количество оружия сочеталось с исключительным по составу «комплексом богатства», а также присутствием ряда предметов, отражающих властные полномочия лю- дей (котел, плеть и др.). Погребение, исследованное на памятнике Балык-Соок I (курган 11), помимо схожего по характеру инвентаря, включало редкие предметы вооружения (копье, защитный доспех), что, вероятно, отражало принадлежность умершего к военной элите.
Отмеченные тенденции находят подтверждение и на большем материале. Выделены две группы погребений (модели III и IV), отличительным признаком которых является минимальный состав вооружения и весьма обширный набор предметов, включенных в «комплекс богатства». При этом достаточно четко фиксируются объекты (модель V) с исключительным составом вооружения и ограниченным количеством предметов торевтики и других изделий, отражающих материальный достаток. Весьма интересна группа VI, объединяющая погребения, которые содержали разнообразное оружие при полном отсутствии предметов, включенных в «комплекс богатства». Очевидно, что в данном случае представлены могилы профессиональных воинов, командующих подразделениями определенного уровня.
Вместе с тем выделена группа «элитных» погребений (модель II), сочетающих исключительный по качеству и количеству состав оружия с достаточно насыщенным набором предметов, включенных в «комплекс богатства». По всей видимости, эти объекты принадлежали кочевникам, соединявшим в своих руках военные и высшие управленческие функции.
Следует признать, что право на существование имеет и другая интерпретация зафиксированных отличий. Не исключено, что в данном случае мы имеем дело с отражением существования «двойной» элиты – феномена, который является достаточно распространенным в обществах номадов, однако изучен еще недостаточно ( Кондрашов , 2004. С. 22; Тишкин , 2005а. С. 53, 54). «Богатые» погребения тюркской культуры Саяно-Алтая с минимальным набором вооружения могли принадлежать местной элите, которая не относилась к правящему роду тюрок Ашина и выполняла определенные управленческие функции.
Выше уже отмечалось, что изучение особенностей существования элиты раннесредневековых кочевников по материалам археологических памятников имеет определенную специфику по сравнению с исследованиями, в которых рассмотрены комплексы высших слоев социума номадов раннего железного века. Социальная дифференциация средневекового общества менее четко отражена в погребальной обрядности тюрок по сравнению с традициями, характерными для многих культур скифо-сакского и «гунно-сарматского» времени. В частности, «элитные» погребения уже не столь резко отличались от памятников, принадлежавших рядовым кочевникам. Проявляется это главным образом в снижении объема трудозатрат, уменьшении числа захороненных лошадей, почти полном отсутствии сопроводительных погребений зависимых людей, ограничении качественных и количественных показателей по отношению к помещаемым в погребение вещам.
Исследователи неоднократно отмечали эту особенность и по-разному ее объясняли. В. М. Массон (1976. С. 175, 176) предположил, что для погребальной обрядности развитых обществ характерен больший рационализм в использовании материальных ценностей, что привело к сокращению за- трат и на сооружение «элитных» комплексов. С. С. Матренин и А. А. Тишкин (2005. С. 158) среди причин, обусловивших сокращение объема трудозатрат на осуществление процедуры захоронения населением булан-кобинской культуры «гунно-сарматского» времени, назвали изменение социально-экономической ситуации и религиозно-мифологической концепции, низкий уровень консолидации номадов региона, а также их зависимость от кочевых империй Центральной Азии.
Признавая справедливость замечаний указанных авторов, выскажу точку зрения, дополняющую их наблюдения. На наш взгляд, обозначенная ситуация в период раннего средневековья может быть связана с усложнением структуры общества номадов, а также с усовершенствованием политической организации кочевников. На данном этапе развития общества скотоводов исчезает столь значительный разрыв между представителями элитных слоев различных уровней, появляется разветвленный аппарат управления, причем основные характеристики центральных органов воспроизводятся на местах. Закономерным процессом стало также увеличение численности людей, относящихся к привилегированным слоям общества номадов, что привело в некоторых случаях к «перепроизводству политической элиты» ( Васютин , 2005. С. 58). Поэтому произошла определенная нивелировка и в отражении прижизненного статуса кочевников в погребальной обрядности. Отметим, что уровень развития социальной организации общества тесно связан с повышением политической консолидации номадов, которая проявляется в унификации типов сооружений, стандартизации ритуала и т. д. Именно такая ситуация зафиксирована при изучении погребальных комплексов тюркской культуры Саяно-Алтая.
В то же время фигура верховного правителя по-прежнему оставалась сакральной и отделенной от простых смертных ( Кляшторный , 2004). Поэтому, по всей видимости, погребения каганов (возможно, даже шире – представителей высших слоев элиты кочевых империй) до сих пор не известны исследователям. Исключение составляют мемориальные комплексы, исследованные в Монголии ( Войтов , 1996. С. 12) и крайне фрагментарно в Саяно-Алтае. На наш взгляд, имеются несколько возможных объяснений такой ситуации: 1) локализация погребальных памятников элиты кочевников на территории, до сих пор не охваченной масштабными раскопками (Северо-Западная и Западная Монголия); 2) отличие обряда захоронения у представителей высших слоев социума каганатов от других кочевников. В связи со вторым предположением не лишенной смысла представляется точка зрения Л. Н. Гумилева (2002. С. 91, 92), в соответствии с которой члены рода Ашина придерживались несколько иных религиозных представлений, нежели основная масса кочевников, а данное обстоятельство, несомненно, влияло и на обрядовую практику. Возможно, решение обозначенной проблемы связано с дальнейшим изучением «княжеских» комплексов на территории Монголии. Так или иначе, на сегодняшний день вопрос остается открытым.
Рассмотрение локализации памятников высших слоев общества тюркской культуры позволяет утверждать, что абсолютное большинство «элитных» погребений расположено на территории Алтая. Некоторые объекты обнаружены неподалеку от мест сосредоточения «царских» курганов скифо-сакского времени
( Кирюшин, Степанова, Тишкин , 2003. С. 8-15). Такая ситуация, безусловно, не случайна и требует отдельного рассмотрения. Ее можно объяснить стремлением раннесредневековых кочевников продемонстрировать свое привилегированное положение связью с предками - представителями высших слоев общества прошлых эпох, подтвердить легитимность на конкретной территории и др. Тенденцией противоположного характера является сравнительная «бедность» большинства погребальных комплексов тюркской культуры, исследованных на территории Минусинской котловины. Судя по всему, данное обстоятельство объясняется кратковременностью привилегированного положения тюрок в этой части Саяно-Алтая и спецификой дальнейшей истории номадов в рассматриваемом регионе.
Итак, анализ и социальная интерпретация погребений тюркской культуры в сочетании с информацией письменных источников позволяет представить сложную структуру и организацию общества раннесредневековых кочевников Саяно-Алтая. В частности, это утверждение иллюстрируется неоднородностью элитных слоев социума не только в имущественном, но также в профессиональном плане.
Список литературы Элита раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая (по материалам погребальных комплексов)
- Акишев К. А., 1978. Курган Иссык: Искусство саков Казахстана. М.
- Алексеев В. П., 1960. Материалы к палеоантропологии Западной Тувы//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. М.; Л. Т. I: Материалы по археологии и этнографии Западной Тувы.
- Алекшин В. А., 1981. Погребальный обряд как археологический источник//КСИА. Вып. 167.
- Алекшин В. А., 1986. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Л.
- Аржан: Источник в Долине царей. Археологические открытия в Туве: По материалам выставки в Гос. Эрмитаже. СПб., 2004.
- Бернштам А. Н., 1946. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI-VIII веков. М.; Л.
- Богданова В. И., 1980. Новые антропологические материалы конца I тыс. н. э. из Тувы//МАЭ. Т. 36.
- Васютин С. А., 1998. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Барнаул.
- Васютин С. А., 2005. Лики власти (к вопросу о природе власти в кочевых империях)//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ. Кн. II.
- Васютин С. А., Дашковский П. К., 2009. Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования). Барнаул.
- Войтов В. Е., 1996. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI-VIII вв. М.
- Гаврилова А. А., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.
- Генинг В. Ф., Бунятян Е. П., Пустовалов С. Ж., Рычков Н. А., 1990. Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных памятников). Киев.
- Горбунов В. В., 2007. Военное искусство алтайских тюрок в раннем средневековье//Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск.
- Горбунова Т. Г., 2004. Украшения конского снаряжения как источник для историко-культурного изучения Алтая (эпоха раннего средневековья): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Барнаул.
- Грач А. Д., 1958. Древнетюркское погребение с зеркалом Цинь-вана в Туве//СЭ. № 4.
- Грач А. Д., 1960а. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в Центральной Туве (полевой сезон 1957 г.)//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции: Материалы по археологии и этнографии Западной Тувы. М.; Л. Т. I.
- Грач А. Д., 1960б. Археологические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге: Полевой сезон 1958 г.//Там же.
- Грач А. Д., 1966. Исследования в Бай-Тайге//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции: Материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика. М.; Л. Т. II.
- Грязнов М. П., 1950. Первый Пазырыкский курган. Л.
- Грязнов М. П., 1980. Аржан -царский курган раннескифского времени. Л.
- Гумилев Л. Н., 2002. Древние тюрки. М.
- Длужневская Г. В., 1976. Сопроводительный инвентарь и вопросы половозрастной дифференциации древнетюркского общества (по материалам погребального обряда)//Из истории Сибири. Томск. Вып. 21.
- Добжанский В. Н., 1990. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск.
- Добролюбский А. О., 1982. О принципах социологической реконструкции по данным погребального обряда//Теория и методы археологических исследований. Киев.
- Евтюхова Л. А., Киселев С. В., 1941. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г.//Тр. ГИМ. М. Вып. 16.
- Жумаганбетов Т. С., 2003. Проблемы формирования и развития системы государственности и права: VI-XII вв. Алмааты.
- Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф., Тишкин А. А., 2003. Скифская эпоха Горного Алтая. Барнаул. Ч. II.
- Киселев С. В., 1951. Древняя история Южной Сибири. М.
- Кляшторный С. Г., 2004. Образ кагана в орхонских памятниках//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ.
- Кондрашов А. В., 2004. Изучение погребального обряда и социальной организации сросткинской культуры (по материалам археологических памятников юга Западной Сибири середины VII-XII вв. н. э.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Барнаул.
- Крадин Н. Н., Данилов С. В., Коновалов П. Б., 2004. Социальная структура хунну Забайкалья. Владивосток.
- Кубарев В. Д., 1992. Палаш с согдийской надписью из древнетюркского погребения на Алтае//Северная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск.
- Кубарев Г. В., 2005. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск.
- Кубарев Г. В., Кубарев В. Д., 2003. Погребение знатного тюрка из Балык-Соока (Центральный Алтай)//Археология, этнография и антропология Евразии. № 4.
- Кызласов Л. Р., 1951. Резная костяная рукоятка плети из могилы Ак-кюна (Алтай)//КСИИМК. Вып. XXXVI.
- Кычанов Е. И., 1997. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.
- Массон В. М., 1976. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). Л.
- Матвеева Н. П., 2000. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. Новосибирск.
- Матренин С. С., 2005 Социальная структура населения Горного Алтая хунно-сяньбийского времени (по материалам погребальных памятников булан-кобинской культуры II в. до н. э. -V в. н. э.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Барнаул.
- Матренин С. С., Тишкин А. А., 2005. Булан-кобинская культура Горного Алтая//социальная структура ранних кочевников Евразии. Иркутск.
- Митько О. А., 1999. Образ грифона в искусстве народов Евразии в древнетюркскую эпоху//Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск. Вып. 2.
- Могильников В. А., 1997. Курган 85 Кара-Кобы-I и некоторые итоги изучения древнетюркских памятников Алтая в связи с исследованиями в Кара-Кобе//Источники по истории Республики Алтай. Горно-Алтайск.
- Овчинникова Б. Б., 1982. Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве//СА. № 3.
- Овчинникова Б. Б., 1983. К вопросу о захоронениях в подбоях в средневековой Туве//Этногенез и этническая история тюркских народов сибири и сопредельных территорий. Омск.
- Овчинникова Б. Б., 1984. Древнетюркские захоронения в подбоях в Центральной Туве//Древний и средневековый Восток: История, филология. М.
- Ольховский В. С., 1995. Погребальная обрядность и социологические реконструкции//РА. № 2.
- Поздняков Д. В., 2006. Палеоантропология населения юга Западной сибири эпохи средневековья (вторая половина I тыс. н. э. -первая половина II тыс. н. э.). Новосибирск.
- Руденко С. И., 1962. Культура хунну и ноинулинские курганы. М.; Л.
- Савинов Д. Г., 1982. Древнетюркские курганы Узунтала (к вопросу о выделении курайской культуры)//Археология северной Азии. Новосибирск.
- Савинов Д. Г., 1987. Парный кенотаф древнетюркского времени//Проблемы происхождения и этнической истории тюркских народов сибири. Томск.
- Селезнев Ю. В., 2009. Элита Золотой Орды. Казань.
- Серегин Н. Н., 2009а. Погребальные сооружения тюркской культуры саяно-Алтая (систематизация и анализ)//Изв. Алтайского гос. ун-та. сер.: История, политология. № 4/2 (64/2).
- Серегин Н. Н., 2009б. Проблемы изучения элиты общества тюркской культуры саяно-Алтая//Актуальные вопросы истории сибири: седьмые научные чтения памяти проф. А. П. Бородавкина. Барнаул.
- Серегин Н. Н., 2010а. Погребальный ритуал кочевников тюркской культуры саяно-Алтая//Вестник НГУ сер.: История, филология. Т. 9. Вып. 5: Археология и этнография.
- Серегин Н. Н., 2010б. Половозрастная дифференциация в погребальном обряде населения тюркской культуры саяно-Алтая//Древности сибири и Центральной Азии. Горно-Алтайск. № 3 (15).
- Серегин Н. Н., 2010в. «Элитные» погребальные комплексы тюркской культуры саяно-Алтая (вторая половина V -XI вв.)//Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде: Тез. докл. Всерос. науч. конф. М.
- Тетерин Ю. В., 1999. Погребение знатного тюрка на среднем Енисее//Памятники культуры древних тюрок в Южной сибири и Центральной Азии. Новосибирск.
- Тишкин А. А., 2005а. Элита в древних и средневековых обществах скотоводов Евразии: перспективы изучения данного явления на основе археологических материалов//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ. Кн. II.
- Тишкин А. А., 2005б. Элита кочевых обществ Алтая скифской эпохи и проблемы их изучения//Древние кочевники Центральной Азии (история культура, наследие). Улан-Удэ.
- Тишкин А. А., Дашковский П. К., 2003. социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул.
- Трифонов Ю. И., 1971. Древнетюркская археология Тувы//Учен. зап. Тувинского НИИЯЛИ. Кызыл. Вып. 15.
- Трифонов Ю. И., 1975. Конструкции древнетюркских курганов Центральной Тувы//Первобытная археология сибири. Л.
- Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. сПб., 1994.