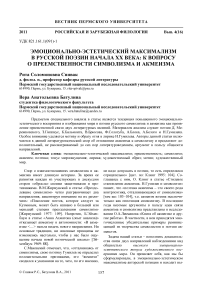Эмоционально-эстетический максимализм в русской поэзии начала XX века: к вопросу о преемственности символизма и акмеизма
Автор: Спивак Рита Соломоновна, Батулина Вера Анатольевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Предметом специального анализа в статье является тенденция повышенного эмоционально-эстетического восприятия и изображения мира в поэзии русского символизма и акмеизма как проявление преемственной связи двух литературных явлений. Материалом анализа служит поэзия Д. Мережковского, З.Гиппиус, К.Бальмонта, В.Брюсова, Ф.Сологуба, А.Блока, А.Белого и Н.Гумилева. Особое внимание уделяется мотиву и образу огня в лирике Н.Гумилева. Авторы данной статьи включаются в давний литературоведческий спор об отношении акмеизма к символизму и предлагают дополнительный, не рассматриваемый до сих пор литературоведением, аргумент в пользу общности направлений.
Эмоционально-эстетический максимализм, преемственность, символизм, акмеизм, поэтика, тонус мироощущения, лирика, художественный образ, мотив, художественный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/14729039
IDR: 14729039 | УДК: 821.161.1(091)-1
Текст научной статьи Эмоционально-эстетический максимализм в русской поэзии начала XX века: к вопросу о преемственности символизма и акмеизма
акмеизм; поэтика; тонус мироощущения; лирика; мир.
Спор о взаимоотношениях символизма и акмеизма имеет длинную историю. За время ее развития каждая из участвующих в дискуссии сторон «обросла» своими защитниками и противниками. В.М.Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» четко разграничивает два направления, акцентируя внимание на их различиях: «Поколение поэтов, которое следует за Кузминым, может быть названо в большей или меньшей степени преодолевшим символизм» [Жирмунский 1977: 109]. Напротив, Б.Эйхен-баум в статье «Анна Ахматова (опыт анализа)» отказывает акмеизму в автономности: «В акмеизме <…> нельзя видеть нового направления. Ни основные традиции, ни основные принципы не изменились настолько, чтобы у нас было ощущение начала новой поэтической школы» [Эйхенбаум 1969: 88].
С.Маковский отмечает, что, «отталкиваясь от символизма, свою поэтику Гумилев не определял положительными признаками, его “акмеизм” сводился к указаниям на то, чего, по его мнению, художественный образ; мотив; художественный не надо допускать в поэзии, то есть определялся отрицательно» [цит. по: Клинг 1995: 104]. Соглашаясь с ним, О. Клинг в статье «Стилевое становление акмеизма. Н.Гумилев и символизм» пишет, что «поэтика акмеизма – это своего рода контрпоэтика, отталкивающаяся от символизма» [там же: 103–104], т.е. акмеизм возник исключительно как оппозиция символизму. В последние годы весомые аргументы в пользу идеи связи акмеизма и символизма представлены в исследовании О.А.Лекманова «Книга об акмеизме и другие работы». В частности, в нем приводятся многочисленные убедительные примеры реминисценций из творчества символистов в поэзии акмеистов.
Задача нашей статьи – пополнить доказательства связи двух направлений наблюдениями над общностью высокого эмоциональноэстетического тонуса художественного восприятия мира . Он проявляет себя, как мы бы сформулировали, в эмоционально-эстетическом максимализме авторской позиции и находит вы-
ражение в подчеркнуто интенсивной «силе жизненных переживаний» (термин Жирмунского) – самых разных, как позитивных в глазах лирического героя и автора, так и негативных.
Под этим углом зрения русский символизм в науке специально не рассматривался. Точнее, эта интересующая нас особенность художественного мира символизма отчасти упоминалась исследователями, но мельком, по ходу разговора о более важных, с точки зрения авторов, атрибутах направления. Так, М.Гаспаров отмечает общую для русского модернизма гиперболизацию чувств и эмоций, но эту тему не развивает. Внимание ученого сосредоточено на собственно поэтике – используемых символистами средствах усиления эмоционального воздействия: заботе о евфонии, благозвучии, звуковых повторах в слове и др. [Гаспаров 1993].
А.Ханзен-Лёве в своем блестящем научном труде о русском символизме останавливается на повышенном эмоциональном тонусе русского символизма несколько дольше, но не как на самостоятельной универсалии художественной системы. Исследователь отмечает «интенсивность витального самопереживания» поэтов-символистов как предпосылку для «самоосвобождения от всяких ограничений религии, философии, морали и этики», как органическую составляющую диаволического ракурса раннего символизма, «дионисийский аспект диаволического витализма» [Ханзен-Лёве 1999: 267] и характерное для раннего символизма воплощение философии экстатического мгновения.
С нашей точки зрения, художественный радикализм символизма проявляет себя значительно шире, занимает большое место не только в раннем, но и позднем символизме и является одной из важных универсалий художественной системы символизма, оказавшей большое влияние на весь последующий русский литературный процесс, в том числе на акмеизм.
Проявления принципа художественного максимализма в творчестве символистов многообразны. Он заявляет о себе четко сформулированными требованиями к художественному творчеству в произведениях, имеющих программный характер, например в стихотворении З.Гиппиус. Значимость этих требований в глазах автора подчеркивает то, что они вынесены в название стихотворения («До дна») и составляют заключительные строки произведения. При этом суть требования акцентирована графически – «тире».
И только одно здесь я знаю верное:
надо всякую чашу пить – до дна. [Гиппиус 1999: 111]. (Здесь и далее выделено нами. – Р.С., В.Б. )
Выражение «пить до дна», означающее в контексте стихотворения «исчерпать до конца» возможности чувства, переживания, постижения смысла, сочувствия, повторяется – в синонимах – в творчестве многих поэтов-символистов и выражает суть тенденции, о которой идет речь.
Являют нам могучие творенья
Страданий человеческих предел . [Мережковский 2000: 483]
Мучительный дар даровали мне боги, Поставив меня на мучительной грани.
[Брюсов 1973, I: 101]
Твой бог – наш бог! Что возрожденье,
Когда до дна прекрасен миг!
[Брюсов 1974, III: 280]
Истома тайного похмелья
Мое ласкает забытье.
Не упоенье, не веселье,
Не сладость ласк, но острие .
[Брюсов 1973, II: 21]
Вместе ведь по краю , было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.
[Блок 1960, III: 151–152]
И думы заостри, как стрелы…
[Сологуб 1975: 419]
Есть яд в огне; он – сладкий яд,
Его до капли жадно пей, –
Огни высокие горят
И ярче, и больней.
[там же: 247]
В стихотворении Гиппиус «Что есть грех?» эмоционально-эстетический максимализм развернут в качестве нравственной и художественной программы жизни и творчества поэта.
Грех – маломыслие и малодеянье,
Самонелюбие – самовлюбленность,
И равнодушное саморассеянье,
И успокоенная упоенность.
Грех – легкочувствие и легкодумие, Полупроказливость – полуволненье.
Благоразумное полубезумие,
Полувнимание – полузабвенье.
Тяжелее всех грехов – Богоубьение,
Жизнь без проклятия – и без молитвы .
[Гиппиус 1999: 124]
Именно эта программа получает художественную реализацию в поэзии Гиппиус с самых первых ее поэтических публикаций, обративших на нее внимание литературной общественности как на нового поэта.
… люблю я себя, как Бога, -
Любовь мою душу спасет.
[Гиппиус 1999: 76]
И мне дороги тихой, без огня желали б вы, боясь страданий.
Но вас – «по-Божьему» жалею я.
Кого люблю – люблю для Бога.
И будет тем светлей душа моя, Чем ваша огненней дорога.
[Там же: 114]
Программа эмоционально-эстетического максимализма неоднократно повторяется в лирических исповедях Брюсова и во многом определяет образ лирического переживания в его как ранней, так и поздней поэзии.
Благословляю вас, мгновенья жизни полной!
[Брюсов 1973 I: 185]
Каждый миг есть чудо и безумье !
[Там же: 225]
Каждым мигом насладиться.
Жизнью мировой дышать .
[Брюсов 1974 III: 258]
Хочу всего без грани и без меры,
Опасных битв и роковой любви!
[Брюсов 1973 II: 92]
Разгадка жизни – впереди!
Душа искать не утомилась
И сердце дрожью жить в груди .
[Там же: 11]
А! Быть как божество ! хоть миг один!
[Брюсов 1973 I: 322]
Эмоционально-эстетический максимализм в качестве художественной и нравственной программы заявлен и Блоком.
Открой, ответь на мой вопрос:
Твой день был ярок?
[Блок 1960 III: 77]
Но верю - не пройдет бесследно
Все, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл!
[Там же: 132]
Благословляю все, что было,
Я лучшей доли не искал.
О, сердце, сколько ты любило !
О, разум, сколько ты пылал!
[Там же: 137]
О, я хочу безумно жить:
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!
[Там же: 85]
Неслучайно большое место в поэзии Блока и А.Белого занимает стихия – любви, революции, национальной судьбы России.
Не являются исключением и Д.Мережковский, и Ф.Сологуб, в поэзии которых, казалось бы, чуждой максимализма и экспрессии, также есть место такой нравственной и эстетической установке. В стихотворениях Мережковского «Поэт» и «Признание» она акцентируется как существенная для художественной программы поэта. На ее программный характер указывают названия произведений.
Я люблю безумную свободу:
Выше храмов , тюрем и дворцов,
Мчится дух мой к дальнему восходу ,
В царство ветра, солнца и орлов.
[Мережковский 2000: 470]
Я счастлив тем, что нет в душе смиренья
Перед тобой, слепая власть природы!..
[Там же: 344]
Я чувствую, что так любить нельзя,
Как я люблю , что так любить безумно…
Но я еще сильней тебя люблю,
И бесконечно я тебя жалею, –
До ужаса сливая жизнь мою,
Сливаю душу я с душой твоею.
[Там же: 484]
Неслучайно автор склоняет голову перед Везувием, представляющимся ему воплощением «Великого Хаоса, Праотцом вселенной» и гигантами духа Леонардо да Винчи и Микеланджело.
…Таким останется навек –
Богов презревший , самовластный , Богоподобный человек.
[Там же: 475]
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
[Там же: 483]
Еще более отчетливо программный характер носят обращения Сологуба к читателю (своего рода нравственные наставления, призывы), формулируя критерии благородной, достойной уважения жизни.
Стремленье гордое храня,
Ты должен тяжесть побороть .
Не отвращайся от огня,
Сжигающего плоть.
Пойми, что, робко плоть храня,
Рабы боятся запылать, –
А ты иди в купель огня
Гореть и не сгорать .
[Сологуб 1975: 247]
В стихийном буйстве жизни дикой,
Бесцельно, суетно спеша,
Томясь усталостью великой, Хладеет бедная душа.
Замкнись же в тесные пределы,
В труде упорном отдохни,
И думы заостри, как стрелы ,
И разожги свои огни .
[Там же: 419]
Установка на художественный максимализм (предельное напряжение чувства, состояния, красок и звуков, заострение мысли) находит выражение в таких особенностях поэтики символизма, как повторы, нагнетание синонимов, введение ярких и контрастных цветов, широкое использование обобщающих слов (никто, никак, никакой, никогда, такой, всегда, все, весь, всякий и др.), наречий, усиливающих названное качество предмета, характер ситуации, отношение к ней автора (так, столько, настолько), эпитетов, подчеркивающих крайнюю степень каких-либо качеств или оценок. Как средства воплощения тенденции эмоционально-эстетического максимализма большое место в творчестве поэтов-символистов занимают также сквозные мотивы страсти, безумия, упоения жизнью, восторга и ненависти, бури, грозы, стихии, молнии, символика огня. Значительная часть этих особенностей поэтики символизма зафиксирована А.Ханзен-Лёве, хотя исследователь рассматривал и комментировал их под другим углом зрения. [Хан-зен-Лёве 1999, 2003]. Повышенный эмоциональный тонус жизни, сила и яркость эмоционального и эстетического восприятия в поэзии символизма часто утверждают себя от противного, посредством негативного отношения автора к противоположному эмоционально-эстетическому тонусу – безучастности, равнодушию, пассивной созерцательности.
Вышедшие на русскую литературную арену акмеисты, естественно, акцентировали в манифестах и статьях свое отличие от символизма. Однако и Н.Гумилев, и С.Городецкий оговаривают некую преемственность акмеизма по отношению к символизму, хотя и не поясняют, в чем она состоит («…чтобы это течение [акмеизм] утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство… Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом» [Гумилев 2001: 114]). И все же Гумилев дал нам ключ к ответу на этот вопрос: расшифровал название нового направления. Первым среди ряда пояснений к содержанию названия в манифесте Гумилева стоит «высшая степень чего-либо» [там же: 113]. Само греческое слово, давшее на- звание новому направлению, буквально переводится на русский язык как «острие». Как мы показали выше, в поэзии символизма это один из синонимов доминанты рассматриваемой нами тенденции.
Эмоционально-эстетический максимализм так или иначе характеризует авторскую позицию и поэтику всех видных поэтов акмеизма. Тем не менее в данном аспекте поэзия акмеизма не получила научного описания. Указывая на свойственную всему русскому модернизму «гиперболизацию красок, гиперболизацию чувств – страсти, ненависти, реже нежности», М.Гаспаров пишет, что отмеченная им особенность «относится в равной степени и к Брюсову, и к Маяковскому… и к Пастернаку» [Гаспаров 1993: 32], но не называет ни одного акмеиста. Повезло только ранней Ахматовой. На уровне поэтики («энергии слова») эмоционально-эстетический максимализм Ахматовой обстоятельно проанализирован в исследовании Б.Эйхенбаума [Эйхенбаум 1969], а его художественное воплощение в лирическом сюжете сборников «Вечер» и «Четки» и образ переживания лирической героини – в нашей статье об антропологии сильной личности [Спивак 2010].
Однако из акмеистов наиболее ярко эмоционально-эстетический максимализм, думается, демонстрирует Н.Гумилев. Эта тенденция прямо заявлена автором в ранних его произведениях, которые можно считать программными.
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко на озере Чад, Изысканный бродит жираф.
Я знаю веселые сказки таинственных стран,
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
[Гумилев 1989: 84]
Проявления эмоционально-эстетического максимализма в поэзии Гумилева многообразны. Они очевидны в заострении чувств лирического героя, его оценок, изображении характера и поведения персонажей, сюжетных ситуаций, в гиперболизации экзотических деталей и красок и не могли остаться незамеченными. Но все эти особенности художественной системы Гумилева в глазах исследователей свидетельствовали прежде всего об актуализации самоценности земно- го мира. Мы же хотим подчеркнуть обостренность восприятия красоты и значимости земных реалий, что указывает на наследование акмеизмом рассматриваемой символистической тенденции.
Поэтому остановимся как на подтверждении преемственности Гумилева по отношению к символизму еще на одной особенности его художественной системы, которая до сих пор в интересующем нас плане не привлекала специального внимания ученых, – на мотивах и образе огня , древнего символа высшей степени напряжения чувства . В лирике поэта образ огня – сквозной образ-символ, кочующий от одного сборника к другому. Появившись уже в раннем, первом сборнике Гумилева «Путь конквистадоров», он проходит через всю лирику, находя отражение в названиях сборников «Огненный столп» и «Костер».
В художественном мире Гумилева огонь выступает в разных, порой противоположных ролях. Преимущественно в ранней лирике поэта он является персонификацией лирического героя, мужского начала, олицетворяющей необоримую силу, активное действие.
Я буду вихрем грозовым,
И громом, и огнем !
[Там же: 15]
Стремление героя подчинить и завоевать мир выступает здесь на первый план. Часто огонь персонифицируется не в образе лирического героя, а в других мужских персонажах: в принце огня, женихе-костре, где олицетворяет все то же сильное, победительное мужское начало. Это вполне согласуется с концепцией адамизма. По выражению В.М. Жирмунского, «активная, откровенная и простая мужественность, его напряженная душевная энергия, его темперамент» находит здесь свое отражение [Жирмунский 1977: 129].
Сопутствует огонь и женским образам, однако образ огня тогда обретает другое содержание. Встречаясь чаще всего в поздней лирике поэта, « созданной из огня » встает образ возлюбленной лирического героя – часто в сопровождении серафимов и ангелов. Образ, таким образом, приближается к библейскому. Возлюбленная героя предстает существом высшей, божественной природы, и Гумилев выглядит как никогда близким Блоку в его преклонении перед Прекрасной Дамой.
В часы последнего усилья,
Когда и ангелы заплещут,
Твои сияющие крылья
Передо мною не заблещут. [Гумилев 1989: 388]
Библейский огонь у Гумилева встречается очень часто. Это и «пылающий ангельский меч» на страже райских врат, «солнечные ангельские трубы» и «пылающие ангельские крылья». Огонь в библейском понимании неотторжим от света, такой он и в поэзии Гумилева. Мотив и образ огня часто сопутствуют Раю: райский огненный песок, горний пожар, огненные небеса, солнечное облако рая. Райский огонь – и традиционно в Библии, и в поэзии Гумилева – благодатный, светлый. Однако на другой стороне мироздания в художественном мире Гумилева находится адский огонь, символ ужаса, несущий гибель, проклятие (адский огнь, сатана на огненном коне). Образ огня в лирике Гумилева, как видим, амбивалентен. Но в каждом случае он символизирует некие крайности: благодать – проклятие, рай – ад, добро – зло, низ – верх, бог – сатана и т.д.
Едва ли не чаще всего образ огня являет собой символ наивысшей власти – князя, царя, властителя, самого Бога. При этом языческий лик Бога (Бог огнепоклонников) акцентирует абсолютность власти как таковой, – не ограничивающей себя ни логикой, ни милосердием.
И, взойдя на плиты алтаря,
Мы заглянем в узкое оконце,
Чтобы встретить песнею царя , Золотисто-огненное солнце… [Гумилев 1989: 71]
Солнце-зверь, я заждалась.
Приходи терзать добычу
Человеческую, князь !
[Там же: 80]
Часто в лирике Н.Гумилева встречается мотив горения. Он символизирует акт творения, созидания, возрождения, но, с другой стороны, смерть, гибель и разрушение.
Легко сгореть и встать иными ,
Ступить на новую межу,
Чтоб встретить в пламени и дыме
Владыку Севера – Раджу.
[Там же: 408]
Трудно храмы воздвигнуть из пепла, И бескровные шепчут уста, Не навек ли сгорела , ослепла
Вековая, Святая Мечта…
[Там же: 49]
Пускай вдали пылает лживый храм,
Где я теням молился и словам…
[Там же: 189]
Смерть и последующее возрождение, сотворенное огнем, восходит еще к античной мифологии, образу феникса, возрождающегося из пепла, символу бесконечного цикла жизни, где на смену умиранию приходит возрождение.
Еще одна важная функция образа огня – соединение несоединимых понятий, что предельно повышает энергетику образа. Так, именно огонь, « вставший до небес из преисподней» [Гумилев 1989: 373], соединяет рай и ад, верх и низ. С помощью огня в мифическом двуполом существе Андрогине соединяются мужчина и женщина. Пройдя через огненный ритуал, лирический герой из мира реального переходит в ирреальность, инобытие.
Вся жизнь позиционируется в лирике поэта как горение. Горение – это не существование, но Жизнь, вечный поиск, обострение всех чувств, предельно напряженная и бесконечная внутренняя работа.
Разве снова хочешь ты отравы,
Хочешь биться в огненном бреду…
За то, что не был ты как труп,
Горел , искал и был обманут,
В высоком небе хоры труб
Тебе греметь не перестанут.
[Там же: 414]
Горение в представлении автора составляет смысл и цель жизни человека и воплощается в образах пылающего сердца, огненной души и духа-Солнца. Эти образы отражают напряженное переживание, страстное стремление к цели, иногда – страстную любовь. Духовный мир, если он обладает огневой силой, подчиняет себе животное начало в человеке.
Его зачаровала вышина
И властно превратила сердце в Солнце .
[Там же: 123]
Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму .
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.
[Там же: 235]
Огонь часто обозначает также высший накал любви («огонь любви», «страстное сгоранье», «любовь разве пламень малый?..»): «огненные чувства» – самые сильные, подчиняющие человека.
В качестве свободной стихии огонь не так часто встречается в творчестве Гумилева. Но огневую, звездную природу таит в себе сама земля, огонь является сутью бытия.
Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездою,
Огнем пронизанной насквозь!
[Там же: 272]
Огонь в поэзии Гумилева присутствует и в сугубо предметном, прямом значении: как пламя лесного пожара («Лесной пожар»), костры в долине («Галла»). Особенно часто с таким огнем встречаемся в изображениях Африки, где он выступает важным элементом экзотики.
Высокая частотность, семантика и символика мотивов и образа огня в лирике Гумилева свидетельствует о прямом наследии символистов. В подтверждение нашей мысли приведем очень небольшую выборку символистских текстов, которые представляют прямые параллели к мотивам и образу огня в творчестве Гумилева, настолько наглядные, что приведенные выше мотивы и образы Гумилева могут быть приняты за их смысловые реминисценции.
Огонь как символ неистового чувства часто встречается у Бальмонта.
Я был желанен ей. Она меня влекла,
Испанка стройная с горящими глазами.
Созвучьем слов своих она меня зажгла , Испанка смуглая с глубокими глазами.
[Бальмонт 1969: 250]
Одновременно, как и в поэзии Гумилева, огонь Бальмонта символизирует разрушение. А в программном стихотворении «Будем как Солнце» солнце – высшая из высших, неземная, святая сущность, воплощение вечной молодости, непревзойденной красоты, счастья. То же – в стихотворении «Весь – весна»:
Пойми, о нежная мечта:
Я жизнь, я солнце , красота…
[Там же]
Огонь также выступает персонификацией лирического героя, олицетворением, как и у Гумилева, властного мужского начала. Огонь Бальмонта символизирует могучую волю, силу чувств и духа:
И меня поймут лишь души, что похожи на меня, –
Люди с волей , люди с кровью, духи страсти и огня !
[Там же: 277]
Как впоследствии Гумилев, Бальмонт ассоциирует огонь-Солнце с возлюбленной.
Ты – солнце во мраке ненастья,
Ты – жгучему сердцу роса!
[Там же: 106]
В сборнике Андрея Белого «Золото в лазури», как указывает Н. В. Барковская, огонь символизирует светозарную, «огненосную Душу мира» [Барковская 1999: 62]. Он остается центральным образом и в сборнике «Пепел», но, согласно наблюдениям А.Б.Лаврова, «восторженную мисте- рию» вытесняет трагедия «самосожжения и смерти» [Лавров 1983: 558]. «Сам лирический герой теперь становится носителем света. <…> Огонь в стихотворении 1907 года («В полях») означает и самосжигание, и искупительную жертву за родину, и какую-то высшую веру в будущее торжество света и добра» [Барковская 1999: 73].
«Мировой пожар» революции несет и поэзия Блока («Двенадцать»). Образ огня приобретает трагическое звучание, подчеркиваемое огненнокрасным цветом крови («кровь солнца»). Большое место, как впоследствии и у Гумилева, занимает также мотив жизни-горения.
Опалённым , сметённым, сожжённым дотла –
Хвала!
[Блок 1960 II: 152]
С образом огня в лирике Блока связаны образы возлюбленных лирического героя – рыжеволосой Кармен, героини стихотворения «Дюны». Огонь является символом страсти и в стихотворении «Перед судом».
Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.
[Там же: 307]
Эта прядь – такая золотая
Разве не от старого огня?
[Там же III: 151–152]
В стихотворении Брюсова «Грядущие гунны» появляется образ сжигаемых книг. Это акт разрушения. Но здесь же есть другой образ – «зажженные светы» тайны и веры, духовных ценностей, что, пылая, не сгорают.
Количество параллелей можно было бы существенно увеличить, причем у символистов образ огня философичнее, многозначнее и порой трудно поддается интерпретации. У Гумилева же, как акмеиста, чаще можно встретить опредмеченное, до бытового, содержание образа. Историкосоциальный смысл образа и мотива огня, встречающийся у символистов, у Гумилева отсутствует, содержание образа и мотива более психологическое, чем философское.
Но все же эти различия не снимают архетипического содержания образа огня как символа эмоционально-нравственного и психологического максимализма. Его функция маркера повышенного эмоционально-эстетического тонуса восприятия и изображения мира свидетельствует о близости символизма и акмеизма по линии рас- сматриваемой тенденции и о преемственной связи двух литературных направлений.
EMOTIONAL-AESTHETIC MAXIMALISM
OF RUSSIAN POETRY AT THE BEGINNING OF THE CENTURY:
ON CONTINUITY BETWEEN SYMBOLISM AND ACMEISM
Rita S. Spivak
Professor of Russian Literature Department
Perm State University
Vera A. Batulina
Student of Philological Faculty
Perm State University
Список литературы Эмоционально-эстетический максимализм в русской поэзии начала XX века: к вопросу о преемственности символизма и акмеизма
- Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд., 1969. 712 с.
- Барковская Н.В. Поэзия «серебряного века». Екатеринбург: Урал. гос. пед. ин-т, 1993. 188 с.
- Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. Т.3. 715 с.
- Брюсов В. Собр. соч.: в 7 т. М.: Худож. лит., 1973-1974. Т.1. 672 с.; Т. 2. 496 с.; Т.3. 696 с.
- Гаспаров М.Л. Поэтика «Серебряного века»//Русская поэзия «серебряного века». 1890-1917. Антология. М.: Наука, 1993. 784 с.
- Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 1999. 592 с.
- Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм//Литературные манифесты. От символизма до «Октября». М.: Аграф, 2001. С.113-118.
- Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1989. 461 с.
- Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: 1977. 408 с.
- Клинг О. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм//Вопр. лит., 1995. Вып. 5. С.101-125.
- Лавров А.В.Андрей Белый//История русской литературы: в 4 т. Т.4. Л.: Наука. Ленингр. отд., 1983. 783 с.
- Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. 704 с.
- Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 2000. 928 с.
- Сологуб Ф. Стихотворения. Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд., 1975. 680 с.
- Спивак Р.С. Антропология сильной личности в ранней лирике А. Ахматовой: сборник «Вечер»//Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология, 2010. Вып. 2(8). С.126-135.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифо-поэтический символизм. Космическая символика. СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 2003. 815с.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система ранних поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Гуманит. агентство «Академический проект», 1999. 512 с.
- Эйхенбаум Б.М. Анна Ахматова. Опыт анализа//Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд., 1969. С.75-148.