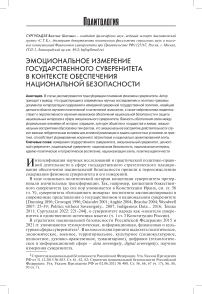Эмоциональное измерение государственного суверенитета в контексте обеспечения национальной безопасности
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются трансформации понимания феномена суверенитета. Автор приходит к выводу, что существующие в современных научных исследованиях и политико-правовых документах интерпретации содержания и измерений суверенной государственной политики, новейшие данные в области изучения политической и когнитивной психологии, а также нейрополитики свидетельствуют о перспективности изучения механизмов обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов в сфере эмоционального суверенитета. Важность обеспечения связи между формальными знаниями об истории, традициях, культуре общества и государства и живым, эмоциональным восприятием обусловлена тем фактом, что эмоциональное восприятие действительности служит важным побудительным мотивом для активной реализации и защиты ценностных установок на практике, формированию искреннего патриотизма и национально ориентированной элиты.
Измерения государственного суверенитета, эмоциональный суверенитет, ценностный суверенитет, национальный суверенитет, национальная безопасность, национальные интересы, идейно-политическое и патриотическое воспитание, национализация элиты, политика идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/170200514
IDR: 170200514 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9698
Текст научной статьи Эмоциональное измерение государственного суверенитета в контексте обеспечения национальной безопасности
И нтенсификация научных исследований и практической политико-правовой деятельности в сфере государственного стратегического планирования обеспечения национальной безопасности привели к переосмыслению содержания феномена суверенитета и его измерений.
В ходе социально-политической истории концепции суверенитета претерпевали значительные трансформации. Так, например, концепции божественного суверенитета (до сих пор упоминается в Конституции Ирана, см. ст. 56 гл. V), суверенитета «богоданного монарха» постепенно эволюционировали в современные представления о государственном и национальном суверенитете [Dunning 1896; Grovogui 1996; Osiander 2001; Anghie 2004; Beaulac 2004; Woodwell 2007: 25-39; Politics without Sovereignty… 2007; Indigenous Data… 2016; Тешке 2011; Сургуладзе 2022: 221-244], о суверенитете народа как «носителя суверенитета и единственного источника власти» (ч. 1 ст. 3 Конституции России).
В стратегиях национальной безопасности Российской Федерации 2015 и 2021 гг. упоминаются технологическая, информационная, финансовая и культурная сферы суверенитета1. В целом сегодня принято выделять политическое, экономическое, военное, территориальное, культурное (социокультурное, ценностное, духовно-нравственное, гуманитарное), цифровое (технологическое в информационной сфере – data sovereignty , digital sovereignty ), научное измерения суверенитета.
При этом, если вопрос выяснения содержания и механизмов практического осуществления народного суверенитета до сих пор является полем научных дискуссий, обусловленных проблематикой практической эффективности и релевантности форм народного волеизъявления в современном мире в условиях беспрецедентной цифровизации, усиливающихся тенденций социального расслоения, олигархизации и клановой замкнутости властвующих элит [Стиглиц 2016], значение и содержание государственного суверенитета представляется более ясным и заключается в способности государства обеспечивать контроль и защищать соответствующие сферы социально-политической жизни, реализовывать политическую волю, ориентированную на обеспечение достаточно широкого спектра национальных интересов и разнообразных форм национальной безопасности.
После дезинтеграции Советского Союза и провозглашения либерального «конца истории», в «момент однополярности», характеризовавшейся глобальным доминированием США и возглавляемой ими группы государств коллективного Запада, стали подниматься вопросы об «угасании государственного порядка» [Фукуяма 2017], о возрастающей роли негосударственных акторов международных отношений (среди которых доминировали транснациональные корпорации группы государств, относящихся к коллективному Западу) [Лал 2010], необходимости разработки концепций «корпоративного гражданства» и даже «корпоративного суверенитета» [Crane, Matten, Moon 2008; Greenfield 2018] при параллельном продвижении доктрин надгосударственного глобального управления, прямо нарушающего сложившиеся принципы международного права, связанные с представлениями о содержании национального (народного) и государственного суверенитета1 [Breau 2016].
Однако назревшие к началу третьего десятилетия XXI столетия политические и экономические противоречия, вызванные снижением могущества государств коллективного Запада на фоне ускоряющихся процессов обретения глобальной субъектности странами незападного мира, возглавляемыми членами группы БРИКС, а также беспрецедентным обострением противостояния России и государств – членов Североатлантического альянса (НАТО), сделали очевидным преждевременность попыток забвения классических геополитических концепций и сложившихся представлений о традиционно высокой роли национального государства ( nation state ) в мировой политике и обеспечении безопасности и благополучия граждан2.
Глобальная гибридная агрессия государств – членов НАТО против России, переросшая в фазу прямого вооруженного противостояния на Украине, актуализирует проблему укрепления государственного суверенитета во всех измерениях, вопросы теоретической разработки концепций, способствующих защите национальных интересов и обеспечению национальной безопасности в наиболее сложных сферах, связанных с субъективным фактором социально-политической жизни общества и государства.
Суверенитет – это способность обеспечить безопасность в соответствующей сфере. К субъективным факторам обеспечения национальной безопасности относятся вопросы мировоззрения, культурного и гуманитарного (ценностного) суверенитета, связанные с поддержанием традиционных духовно-нравственных ценностей и цивилизационной самобытности общества1. Задачи обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, а также в сфере социально-политической психологии, мотивов действий и поведения граждан предполагают разработку новых подходов к пониманию суверенитета, в частности делают актуальной разработку концепции эмоционального суверенитета.
Современные исследования подтверждают важность включения эмоциональной составляющей в процессы управления обществом: субъективные факторы, побуждающие к практическим действиям, рассматриваются специалистами в качестве мощнейших внутренних поведенческих стимулов [Moral Brains… 2016; Pfaff 2015; Damasio 2010; Choices, Values… 2009; Neurobiology… 2005]. В свете исследований в области политической и когнитивной психологии, бихевиоризма и нейрополитики [Kugler, Zak 2017; The Neuroscientific Turn… 2012; Schreiber 2011], а также ряда практических дисциплин, связанных с манипуляциями индивидуальным и массовым поведением, выявивших рациональную подоплеку иррациональных действий [Maltby, Day, Macaskill 2017: 458-479; Preference, Belief… 2004], важнейшим направлением государственной политики идентичности, культурной и информационной политики становится акцент на работу по обеспечению эмоциональной вовлеченности граждан в дела страны, поскольку именно эмоции выступают наиболее эффективным механизмом, стимулирующим граждан к активным действиям [Джервис 2022: 96; Сургуладзе 2023], вследствие чего при управлении социально-политическими процессами рациональные мотивы поведения целесообразно подкреплять эмоциональными.
Во многих сферах социальной деятельности рациональные доводы, «холодный расчет» оказываются менее эффективными либо совсем неэффективными, если не подкреплены эмоциональными мотивами. Любовь к Родине, патриотизм, верность традициям и культуре, равно как и неприятие навязываемых извне аморальных доктрин, дискредитации национальной истории, попыток очернения национальных героев и общенародных подвигов, являются в значительной степени субъективными факторами, формируются соответствующей информационной средой, моральным климатом общества и воспитанием, ориентированным на превентивное предотвращение аномии, морально-этического разложения общества, забвения сложившихся социокультурных достижений и социальных норм поведения, подразумевающих служение обществу и государству2.
В условиях обострения международных отношений ориентация на фрагментированное общество потребления, состоящее из обособленных эгоцен- тричных «квалифицированных потребителей», озабоченных только личным благополучием, чревата губительными для социума и государства стратегическими последствиями. Это значит, что государству необходимо активизировать политику по идейно-политическому сплочению граждан, не формальнодекларативному, а реальному воспитанию в духе эмоционально переживаемой сопричастности судьбам страны, ее прошлому, настоящему и будущему.
На протяжении многих лет разнообразные разрабатывавшиеся теоретиками США концепции «мягкой» и «умной» силы, манипулирования поведением потребителей средствами маркетинга, рекламы и PR , эмоционального вовлечения граждан зарубежных государств в американоцентричную систему ценностей и представлений о нормах этики и морали, критериях добра и зла, приемлемости поведенческих моделей, навязывавшихся посредством доминировавших в глобальном информационном пространстве популярной культуры Голливуда и MTV , транснациональных корпораций и английского языка, подтверждают правомерность и своевременность постановки вопроса об изучении и защите эмоционального суверенитета общества, проявляющегося в способности социума и государства обеспечивать эмоциональную вовлеченность и сопричастность граждан делу защиты национальных интересов и национальной безопасности.
Примером проблем суверенитета в эмоциональной сфере может служить массовый отток российских IT-специалистов1, наблюдавшийся после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г., а также резонансные случаи выезда за рубеж лидеров общественного мнения2, осудивших действия военно-политического руководства России. Примеры агрессивного неприятия представителями «креативного класса» (творческой элиты) текущей международной обстановки продемонстрировали неготовность заметной части ее представителей встать на защиту своего общества и государства в период беспрецедентных стратегических вызовов и угроз, нежелание вникать в закономерности объективных глобальных геополитических тектонических сдвигов, не вписывающихся в сложившуюся за три десятилетия постсоветских лет либеральную картину мира, в соответствии с которой существуют только личные интересы и личное потребительское благополучие, не признаются обязательства перед обществом. Проявления на практике западоцентричного мировоззрения, в рамках которого безальтернативной моделью существования провозглашаются ультралиберальные догмы, воспринимаемые в качестве истины в последней инстанции, свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии эмоционального суверенитета России, проявляющемся в поведении категорий граждан, традиционно рассматриваемых (а часто и самопози-ционирующихся) в качестве представителей интеллектуальной элиты, «совести нации», акторов национально-политической мобилизации общества, генерирующих ценности и смыслы.
В связи с вышеизложенным под эмоциональным суверенитетом следует понимать: 1) способность общества и государства обеспечивать положитель- ную эмоциональную связь (эмоциональную привязанность) граждан со сложившимися в социуме традиционными для него ценностными установками, 2) формировать национально ориентированное общегражданское мировоззрение, самосознание и национально-государственную идентичность, 3) защищать социум от враждебных Российской Федерации манипулятивных практик воздействия на массовое сознание, продвигающих чуждые народам России ценностные установки.
Задачи защиты суверенитета в идентитарной сфере зафиксированы во многих российских доктринальных политико-правовых документах1, однако на практике целеполагающие документы государственного стратегического планирования в значительной степени остаются декларативными, поскольку зафиксированные в них положения не претворяются в жизнь средствами активной государственной информационной политики. Эта политика на протяжении постсоветских десятилетий была отдана на откуп «самоорганизующимся рыночным силам», которые по самой своей коммерческой природе не могут без контроля общества и государства концентрироваться на не предполагающей непосредственной финансовой выгоды созидательной повестке по консолидации общества, повышению его морально-этического и культурного облика, воспитанию и просвещению граждан в духе этики служения общему благу вместо превалирующей в либеральных концепциях повестки узко эгоистического интереса.
Сложная международная обстановка, проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, попытки дестабилизировать российское общество изнутри, осуществляемые внешнеполитическими акторами и поддерживаемыми извне агентами влияния, диктуют необходимость активного перехода от декларируемых целей укрепления ценностного и культурного суверенитета России, защиты информационной безопасности в мировоззренческой сфере к практическим мероприятиям системного характера.
Одним из направлений данной работы является введение в учебные планы вузов курса «Основы российской государственности», программа которого предполагает акцент на важнейших идейных составляющих патриотического воспитания граждан: освещении цивилизационных особенностей России, ее культурно-исторической специфики, особенностей исторической миссии на разных этапах истории, роли на международной арене2.
Понимание молодым поколением российских граждан исторического пути России должно содействовать постепенному формированию образованной, идейно развитой, патриотически мыслящей элиты, способной заполнить мировоззренческий вакуум, образовавшийся в обществе в период самоустранения государства и псевдоэлитных групп от воспитательных функций и кон- солидации социума на базе ценностей общегражданского патриотизма, реализации активной информационной политики и политики идентичности.
Сложно испытывать эмоциональную привязанность – уважать, ценить, любить, защищать то, чего не знаешь и не изучаешь, особенно в условиях многолетнего глобального доминирования транснациональной по форме, однако западной по содержанию информационной повестки, в которой личный успех связывается не с местом рождения, продолжением традиций предков и служением на благо общества и государства, а с якобы универсальными ценностями наднационального мира ТНК и оторвавшихся от собственных корней коррумпированных офшорных псевдоэлит.
Укрепление российского суверенитета в сферах науки и образования призвано преодолеть разрыв между формальным изучением истории и культуры России и живым, эмоциональным переживанием исторических судеб Родины, а значит, будет содействовать укреплению и эмоционального суверенитета, и общего состояния национальной безопасности, поскольку, как доказано психологами и нейробиологами, именно эмоции стимулируют людей к действиям, эффективно мотивируют и придают волевые импульсы, направленные на защиту и реализацию морально-нравственных и ценностных установок.
Происходящий на наших глазах сдвиг глобальных центров политического могущества, формирование многополярного мира, одним из ключевых полюсов которого выступает Россия, актуализируют задачу идейно-политического воспитания и национализации элит, системного вовлечения широких слоев общества и лидеров общественного мнения во всех сферах культурной и социально-политической деятельности в прогосударственную информационную повестку. В рамках этой повестки «правильные» декларируемые государством доктрины не могут оставаться формальными целеполагающими документами государственного стратегического планирования, неизвестными и непонятными обществу, они должны системно популяризироваться и объясняться, доводиться до сведения всех лиц, в сферу компетенции которых входят вопросы воспитания и образования, формирования патриотического мировоззрения и российской национально-государственной идентичности.
Список литературы Эмоциональное измерение государственного суверенитета в контексте обеспечения национальной безопасности
- Джервис Р. 2022. Восприятие и неверное восприятие в международной политике. М.: Центр анализа стратегий и технологий. 648 с.
- Лал Д. 2010. Похвала империи: Глобализация и порядок. М.: Новое издательство. 364 с.
- Стиглиц Дж.Ю. 2016. Великое разделение: неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения?М.: Эксмо. 475 с.
- Сургуладзе В.Ш. 2022. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности. Трехчастная модель государственной политики: ценностный суверенитет, опорные точки идентичности, деятельностная концепция нации. М.: Аналитическая группа «С.Т.К.». 960 с.
- Сургуладзе В.Ш. 2023. Актуализируя Роберта Джервиса. - США и Канада: экономика, политика, культура. № 2. С. 83-100.
- Тешке Б. 2011. Миф 1648 года: класс, геополитика и создание современных международных отношений. М.: ИД ГУ-ВШЭ. 416 с.
- Фукуяма Ф. 2017. Угасание государственного порядка. М.: АСТ. 704 с.
- Anghie A. 2004. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. N.Y.: Cambridge University Press. xix + 359 p.
- Beaulac S. 2004. The Power of Language in the Making of International Law: The
- Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia. Leiden—Boston: Martinus Nijhoff Publishers. xiv + 200 p.
- Breau S. 2016. The Responsibility to Protect in International Law. An Emerging Paradigm Shift. N.Y.: Routledge. xviii + 306 p.
- Choices, Values, and Frames. 10th ed. (ed. by D. Kahneman, A.Tversky). 2009. N. Y.: Cambridge University Press. 860 p.
- Crane A., Matten D., Moon J. 2008. Corporations and Citizenship. N.Y.: Cambridge University Press. xii + 250 p.
- Damasio A. 2010. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. N. Y.: Pantheon Book. xi + 367 p.
- Dunning W.A. 1896. Jean Bodin on Sovereignty. With Some Reference to the Doctrine of Thomas Hobbes. - Political Science Quarterly. Vol. XI. No. 1. P. 82-104.
- Greenfield K. 2018. Corporations Are People Too (And They Should Act Like It). New Haven: Yale University Press. xvi + 280 p.
- Grovogui S.N. 1996. Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans: Race and Self-Determination in International Law. Minneapolis: University of Minnesota Press. xii + 282 p.
- Indigenous Data Sovereignty. Toward an Agenda (ed. by T. Kukutai, J. Taylor). 2016. Canberra: Australian National University Press. xxiii + 320 p.
- Kugler J., Zak P.J. 2017. Trust, Cooperation, and Conflict: Neuropolitics and International Relations. — Advancing Interdisciplinary Approaches to International Relations (ed. by S.A. Yetiv, P. James). Cham: Palgrave Macmillan. P. 83-113.
- Maltby J., Day L., Macaskill A. 2017. Personality, Individual Differences and Intelligence. 4th ed. Harlow: Pearson. xxvi + 690 p.
- Moral Brains: The Neuroscience of Morality (ed. by S.M. Liao). 2016. N.Y.: Oxford University Press. xiv + 365 p.
- Neurobiology of Human Values (ed. by J.-P. Changeux, A.R. Damasio, W. Singer, Y. Christen). 2005. Heidelberg: Springer. xv + 159 p.
- Osiander A. 2001. Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth. — International Organization. Vol. 55. No. 2. P. 251-287.
- Pfaff D.W. 2015. The Altruistic Brain: How We Are Naturally Good. N.Y.: Oxford University Press. x + 295 p.
- Politics without Sovereignty: A Critique of Contemporary International Relations (ed. by C.J. Bickerton, P.Cunliffe, A.Gourevitch). 2007. N. Y.: UCL Press. xiv + 208 p.
- Preference, Belief, and Similarity. Selected Writings by Amos Tversky (ed. by E. Shafir). 2004. Cambridge: MIT Press. xvi + 1023 p.
- Schreiber D. 2011. From SCAN to Neuropolitics. — Man Is by Nature a Political Animal: Evolution, Biology, and Politics (ed. by P.K. Hatemi, R. McDermott). Chicago: University of Chicago Press. P. 273-299.
- The Neuroscientific Turn: Transdisciplinarity in the Age of the Brain (ed. by M.M. Littlefield, J.M. Johnson). 2012. Ann Arbor: The University of Michigan Press, xiv + 254 p.
- Woodwell D. 2007. Nationalism in International Relations. Norms, Foreign Policy, and Enmity. N.Y.: Palgrave Macmillan. xii + 223 p.