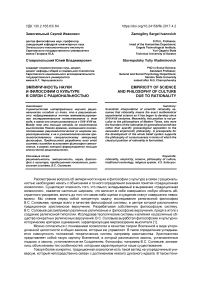Эмпиричность науки и философии о культуре в связи с рациональностью
Автор: Замогильный Сергей Иванович, Ставропольский Юлий Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Сциентистская интерпретация научной рациональности исходит из того, что в рациональности подразумевается точное математизированное экспериментальное естествознание в том виде, в каком оно стало развиваться с XVII-XVIII вв. Между тем эта позиция отнюдь не свойственна мыслителям Нового времени, являвшимся основоположниками рационалистической (в широком мировоззренческом, а не в узкогносеологическом противопоставлении сенсуалистскому эмпиризму) философии. Предпосылкой разработки всей этой системы взглядов выступает философия самосознания, в рамках которой формулируется позиция классической рациональности.
Рациональность, эмпиричность, наука, философия о культуре, традиционная космология, религиозная система, в.с. соловьев
Короткий адрес: https://sciup.org/14941235
IDR: 14941235 | УДК: 130.2:165.63/.64 | DOI: 10.24158/fik.2017.4.2
Текст научной статьи Эмпиричность науки и философии о культуре в связи с рациональностью
Summary: Scientistic interpretation of scientific rationality assumes that rationality means the exact mathematical experimental science as it has begun to develop since XVII-XVIII centuries. Meanwhile, this position is not peculiar to the philosophers of Modern Times, who were the founders of the rationalist (in generalized worldview rather than specific gnoseological opposition to the sensualist empiricism) philosophy. A prerequisite for the development of the whole belief system supports the philosophy of consciousness in terms of which the classical position of rationality is formulated.
Рассмотрение вопроса об эмпиричности науки и философии о культуре в связи с рациональностью необходимо начать с объяснения и точного определения значения понятия «традиционная космология». Существует опасность того, что смысл, вкладываемый в выражение «традиционная космология», окажется настолько широким, что включит в себя совершенно любую область абстрактного умозрения, вплоть до того что какие-либо оценки и суждения станут совершенно невозможны. Мы ставим перед собой конкретную задачу исследования религиозной философии В.С. Соловьева, прежде всего в качестве философской системы, в центре которой расположено традиционное христианское вероучение. Разрабатывая собственную философскую систему, В.С. Соловьев рассматривал различные религиозные и философские вероучения, придя в итоге к созданию религиозной типологии. Исследовав теологические системы и влияния на различные общества конкретных религиозных вероучений, В.С. Соловьев выработал философские и культурноисторические критерии оценивания, характеризующие мировоззрение мыслителя [1].
Можно согласиться с пониманием космологии в качестве теории Вселенной в виде упорядоченной целостности и общих законов, которые ею управляют. В такое определение укладывается совокупность положений теоретических систем, например христианства. Христианство представляет собой такую картину Вселенной, в которой различаются законы, установленные людьми, и законы, установленные ее Создателем. Философы, например В.С. Соловьев, занимались объяснением тех особенностей, которыми характеризуется наше существование.
Говоря более конкретно, традиционная космология есть такой взгляд на упорядоченный универсум, который непосредственно связан с достижением некоего духовного идеала. В таком пони- мании традиционными системами можно считать христианство, иудаизм, индуизм, буддизм и ислам. В каждой из этих религиозных систем универсум предстает иерархически упорядоченным, намечается определенный духовный идеал, излагаются практические заповеди, пути благодати и пути просветления. Традиционная космология решительно отмежевывается от любых оккультных знаний, темных сил, тайных посвящений [2]. Истинно духовное знание ведет не к увеличению могущества, но к значительно более трудному искоренению любых стяжательных мыслей.
В предисловии к произведению «История и будущность теократии» В.С. Соловьев открыто говорит о своем желании поднять веру наших отцов на новый уровень сознания. Данное заявление следует воспринимать в контексте 1880–1890 гг., когда среди образованных русских заметно проявилось отсутствие интереса к традиционному христианскому вероучению и к мнению и позиции Русской православной церкви. По мнению русской интеллигенции, церковь находилась в обскурантизме и не заслуживала доверия. Дискредитации церкви отчасти способствовали ее длительные отношения с самодержавным государством. Но правильнее было бы утверждать, что дискредитацию церкви обеспечил позитивизм О. Конта, некритически воспринятый в России. Со временем Контов позитивизм сам превратился в разновидность ортодоксии и идолопоклонства.
В.С. Соловьев считал своей обязанностью как философа выразить неприятие позитивизма, так как до тех пор, пока христианское вероучение не обрящет адекватности, разочарование интеллигенции нельзя считать необоснованным, поэтому цель своей жизни он видел в восстановлении веры наших отцов [3]. Речь идет именно о восстановлении, не об инновациях, поэтому в своих произведениях В.С. Соловьев обращается к своей центральной теме из разных отправных точек, на что указывают их названия: «История и будущность теократии», «Россия и всемирная Церковь» и т. п., свидетельствующие о том, что данные произведения возвращают нас к проблематике христианского вероучения.
В произведениях 1880-х гг. В.С. Соловьев ищет пути примирения Православной и Римской католической церквей. Он обращался за практической поддержкой к архиепископу хорватскому, посвятив этому проекту, как он сам выражался, лучшие годы своей жизни. Разочаровавшись в возможности церковного примирения, В.С. Соловьев занялся преимущественно теоретической философией и пришел к мысли о том, что соборность как христианский идеал истинного единодушия недостижим в пределах человеческой истории. В связи с этим ученый сделал пессимистический вывод о ее завершении, ибо жизненные силы мировых держав истощены, следовательно, лишь немногочисленная группа людей сохраняет верность идеалам христианской религии.
Независимо от своих основополагающих аксиом (монотеистических, деистских, механи-цистских, пантеистических), космологическое объяснение мира в какой-то момент приписывает человеку определенный статус, указывающий на его место в мироздании с точки зрения процессов развития. Такие объяснения существенно отличаются друг от друга, поскольку опираются на различные концепции человека. Но сильнее всего они различаются по той активной степени участия, которую они отводят человеку в мировом процессе.
Со времен древнейших иудейских умозаключений, с ведического периода в Индии до наших дней ход религиозного и философского мышления отражает полный диапазон возможных интерпретаций человеческой роли от предельной пассивности до предельного господства над собственным окружением и самостоятельности. Между этими двумя крайними точками располагается множество космологических интерпретаций, наделяющих человека посреднической ролью между верхним и нижним мирами, высшими и низшими существами. Это говорит о том, что природа человека сложна и неоднородна, например физическая/психическая/духовная либо ир-рациональная/рациональная/сверхрациональная и т. п.
В.С. Соловьев считал, что человек имеет статус морального существа. Этика, характер деятельности, способность самосознания у человека производны от опосредующего положения, которое человек занимает между Божественным абсолютом и материальной природой. Древнейшие космологические интерпретации при помощи мифических терминов передают те компоненты космологической теории, за счет которых поддерживается тесная связь между вселенскими законами и мотивационными силами истории, которая сплошь и рядом дает о себе знать знаменательными отметками в хронологическом измерении, зафиксированными историческими событиями. Озабоченность по поводу выявления этой связи во многом характерна для иудеохристианского мира и представлена в трудах европейских авторов, начиная с Г.В.Ф. Гегеля и Ф.В. Шеллинга.
Отношение В.С. Соловьева к морали и критериям моральных поступков во многом производно от И. Канта [4]. Вслед за И. Кантом русский философ указывает на стыд и называет его первым из трех оснований морали. В.С. Соловьев думает ровно о том, что подтверждение обоснованности морального обязательства устанавливается по психологическому факту стыда. Так, по И. Канту стыд есть не только исходные данные о морали, но вся мораль целиком заключена в стыде. Семя морали есть стыд, а ее цветок и плод - принятие Царства Божия в человеке. Вслед за И. Кантом В.С. Соловьев вторит категорическому императиву, благодаря которому мораль можно определить позитивно. Однако концепция морали по В.С. Соловьеву не полностью заимствуется у И. Канта и А. Шопенгауэра. Третий важный аспект решения моральных вопросов В.С. Соловьевым состоит в выходе с субъективной этикой на человека и с объективной этикой на общество с его отношениями между людьми. Этот аспект наиболее всего интересен, так как он сообщает целостному взгляду В.С. Соловьева на христианство проповедуемый им принцип любви – действенной, преобразующей, искупительной, в соответствии с которым надлежит переустроить человеческое общество. Нельзя всерьез исповедовать веру Христову, утверждал В.С. Соловьев, если обществом будут управлять мирские ценности, если нам безразлична социальная справедливость. Очевидный отход от христианских ценностей дал В.С. Соловьеву повод раскритиковать христиан в византийском обществе, как впоследствии и русское общество последнего десятилетия XIX в.
Ссылки:
-
1. Gaut G. Can a Christian be a nationalist? Vladimir Soloviev’s critique of nationalism // Slavic Review. 1998. No. 57. P. 77–94.
-
2. Groberg K.A. The feminine occult Sophia in the Russian religious renaissance: a bibliographic essay // Canadian-American Slavic Studies. 1992. No. 26. P. 197–240.
-
3. Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989.
-
4. Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. М., 1989.
Список литературы Эмпиричность науки и философии о культуре в связи с рациональностью
- Gaut G. Can a Christian be a nationalist? Vladimir Soloviev’s critique of nationalism//Slavic Review. 1998. No. 57. P. 77-94.
- Groberg K.A. The feminine occult Sophia in the Russian religious renaissance: a bibliographic essay//Canadian-American Slavic Studies. 1992. No. 26. P. 197-240.
- Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989.
- Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. М., 1989.