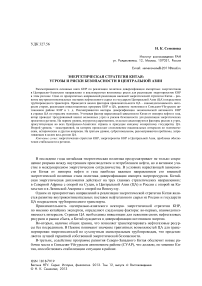Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски безопасности в Центральной Азии
Автор: Семенова Нелли Кимовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные шаги КНР по реализации политики диверсификации импортных энергопотоков в Центрально-Азиатском направлении и анализируются возможные риски для реализации энергопроектов КНР в этом регионе. Одно из приоритетных направлений реализации внешней энергетической стратегии Китая – развитие внутриконтинентальных поставок нефтегазового сырья из государств Центральной Азии (ЦА) посредством трубопроводного транспорта. Проводится анализ факторов привлекательности ЦА – взаимодополняемость интересов сторон, реализация инвестиционных программ КНР в ЦА, развитие экономики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР ит. д. Рассматриваются векторы диверсификации экономической активности КНР в странах ЦА по отраслям экономик. Учитывая фактор нарастающей зависимости Китая от импорта нефти и газа, автор проводит трехуровневый анализ возможных угроз и рисков безопасности для реализации энергетических проектов в регионе. На первом уровне, внутригосударственном, отдельно анализируются факторы рисков и угроз, присутствующие во всех Центрально-Азиатских странах и присущие каждому конкретному государству ЦА. Второй уровень – межстрановой, на котором происходит столкновение национальных интересов по экономическим, историческим и другим вопросам. На третьем уровне, субрегиональном, рассматриваются проблемы, затрагивающие в целом весь регион ЦА.
Энергетическая стратегия кнр, энергопроекты кнр в центральной азии, проблемы обеспечения стабильности в регионе
Короткий адрес: https://sciup.org/147218799
IDR: 147218799 | УДК: 327.56
Текст научной статьи Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски безопасности в Центральной Азии
В последние годы китайская энергетическая политика предусматривает не только сокращение разрыва между внутренним производством и потреблением нефти, но и активное участие в международном энергетическом сотрудничестве. В условиях нарастающей зависимости Китая от импорта нефти и газа наиболее важным направлением его внешней энергетической политики стала политика диверсификации импорта энергоресурсов. Китайская энергетическая дипломатия действует на трех главных стратегических направлениях: в Северной Африке с опорой на Судан, в Центральной Азии (ЦА) и России с опорой на Казахстан и в Латинской Америке с опорой на Венесуэлу.
Одним из приоритетных направлений в реализации энергетической стратегии Китая является развитие внутриконтинентальных поставок нефтегазового сырья из России и государств ЦА посредством трубопроводного транспорта.
Привлекательность «центрально-азиатского вектора» энергетической стратегии КНР, по мнению китайских экспертов, определяют следующие факторы: во-первых, взаимодополняемость интересов. Странам ЦА необходимы инвестиции для освоения своих нефтегазовых ресурсов и рынки сбыта, а Китай нуждается в диверсификации источников энергии.
Во-вторых, наличие общих границ, что позволяет транспортировать нефтегазовые ресурсы без посредников. В Пекине понимают значение транзитных возможностей ЦА для транспортировки энергоносителей по сухопутным магистральным трубопроводам, что представляется лучшей гарантией собственной энергетической безопасности.
В-третьих, содействие программе развития Северо-Западного Китая обеспечит новые рабочие места в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), что должно, по мнению Китая, способствовать стабилизации ситуации в районе.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 4: Востоковедение
В-четвертых, обеспечение мирного окружения и расширение влияния в странах ЦА немаловажно с точки зрения перспективных геополитических целей Пекина [Пань Гуан, 2007].
Осуществляя внешнюю энергетическую стратегию «выход за пределы», Китай уверенно и неторопливо укрепляют свое влияние и мощь, действуя в духе мудрой китайской поговорки «мань цзоу» – «шествуй медленно». С этой целью используются торгово-экономические связи, предоставление кредитов на льготных условиях, поставки технологий, подготовка кадров и командирование квалифицированных рабочих и т. п. Особое место отводится взаимовыгодным инфраструктурным проектам.
После арабских революций традиционные пути доставки Китаю нефти и газа с Ближнего Востока становятся все более опасными и нестабильными. В этих условиях резко возрастают роль и цена сухопутных энергетических коридоров из ЦА и России.
Общий объем осваиваемых китайских инвестиций в странах ЦА составил в 2011 г., по некоторым данным, около 17 млрд долл. Освоение китайских инвестиций любого назначения стимулирует товарооборот между КНР и государствами ЦА, а также улучшает ряд макроэкономических показателей стран региона. Сотрудничество в торговле энергоресурсами с таким стабильным «оптовиком»-импортером, как Китай способствует устойчивости коммерческих связей государств ЦА на трансрегиональном уровне, а также росту их добывающего комплекса. Однако фокусировка на сырьевой сфере отвлекает ресурсы от обрабатывающего кластера, без которого формирование в регионе сбалансированной экономической структуры крайне проблематично 1.
И хотя нефтегазовый вектор пока остается главным в энергетической и, в целом, в экономической политике Китая в ЦА, тем не менее некоторая диверсификация экономической активности КНР в странах ЦА по отраслям экономик также имеет место. В частности, среди отраслей ТЭК помимо нефтегазовой отрасли китайские интересы в регионе в последние годы все больше затрагивают атомную энергетику (Казахстан), электроэнергетику (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан), а также угольную отрасль (Кыргызстан). Экономическое влияние Китая в ЦА постепенно распространяется уже и на Таджикистан и Кыргызстан, где не имеется промышленных запасов углеводородов. В этом же ряду Узбекистан, который обладает промышленными запасами нефти и газа, но не ориентирует свою политику к масштабному увеличению их экспорта 2.
Казахстан остается главным приоритетом для Китая в ЦА в плане развития двустороннего сотрудничества. На него приходится около 80 % товарооборота между Китаем и всеми центрально-азиатскими странами – членами ШОС 3. Самой большой сферой китайских инвестиций стала нефтегазовая. В последовательном наращивании китайского экономического присутствия в ЦА, создание трубопроводной инфраструктуры играет не последнюю роль.
В реализации энергетического вектора стратегии «выход за пределы» Китайская Народная Республика достигла впечатляющих успехов по освоению зарубежных месторождений углеводородов (и не только) в Центрально-Азиатском регионе. При этом необходимо учитывать, что регион находится в центре геостратегического треугольника: Европы, Азии и Ближнего Востока. Нефтяные и газовые месторождения ЦА и Каспия превратились в объект международной конкуренции, геостратегического противостояния, военных вызовов и угроз, обусловленных устремлениями ведущих стран мира и межгосударственных союзов к нефтегазовым ресурсам региона 4. Регион ЦА, Каспия и примыкающие «горячие» регионы (Кавказский, Южно-Азиатский и Ближневосточный) переполнены проблемами, противоречиями, конфликтными ситуациями, которые потенциально являются существенными дестабилизирующими факторами, и не только с точки зрения энергетической безопасности. Этот клубок угроз и рисков (этнических, экономических, политических и др.) требует самого пристального внимания со стороны международных организаций (ШОС, ОДКБ) и постоянного монито- ринга ситуации в Центрально-Азиатском регионе. В этой связи можно обозначить, по крайней мере, три уровня рисков и угроз безопасности в регионе: внутригосударственный, межстрановой, субрегиональный.
На внутригосударственном уровне первым и основным фактором безопасности являются вопросы внутренней стабильности государств ЦА. В этом контексте можно выделить два вида внутренних угроз, условий нестабильности и рисков безопасности: генерализованные, которые в силу множества причин присутствуют во всех центрально-азиатских странах, и особенные, присущие каждому конкретному государству ЦА.
Генерализованные угрозы и риски в государствах этого региона следующие.
-
1. Архаизация государственных институтов в процессе строительства национальных государств после распада СССР. В них появились четкие элементы, характерные для восточных деспотий прошлых веков.
-
2. Слабость демократических начал в сочетании с клановыми принципами формирования институтов государственного управления и соответствующим подходом к решению социально-экономических проблем 5.
-
3. Протекающие в ЦА процессы модернизации не имеют внутренних корней и источников саморазвития. Происходит противоборство ценностей – либеральной (западной) и традиционалистской (восточной) культур [Омаров, 2007].
-
4. Сырьевые модели экономического развития стран ЦА обладают многочисленными изъянами, в том числе ростом разрыва между слоями с высокими и низкими доходами, коррупцией, несправедливым распределением национальных богатств в пользу отдельных кланов. Слабо развиваются рыночные механизмы. Для экономик характерна низкая конкурентоспособность на региональных и мировых рынках, высокая степень зависимости от импорта товаров или экспорта ресурсов 6, нарастание трудовой миграции.
-
5. Маргинализация населения, особенно молодежи 7, социально-культурный распад наций.
-
6. В экономиках стран ЦА большую долю занимает криминальный бизнес, в первую очередь, теневая экономика и наркотрафик 8.
В СМИ муссируются идеи относительно возможности повторения «арабской весны» в центрально-азиатских странах. Мнения экспертов разделяются. Одни высказывают предположение о том, что в странах ЦА ситуация не позволяет прогнозировать волну революционных волнений [Корецкий, 2008]. Эксперт по странам ЦА Сулаймони Шохзода 9 называет несколько причин, из-за которых сегодня странам региона ничего не угрожает. «Политические режимы и элиты относительно сгруппированы, протестные настроения не консолидированы. Общества в Таджикистане и Киргизии уже научены горьким опытом гражданской войны и революционных пертурбаций и испытали пагубность их последствий» 10. Однако, по мнению других, под действием организующей силы, в том числе внешней, волнения могут вспыхнуть 11.
Следующий вид внутренних угроз и рисков безопасности – особенные. Рассмотрим основные условия нестабильности политической ситуации в каждом из государств ЦА.
Казахстан. Экономический лидер среди стран ЦА. Многие эксперты высказывают схожее мнение о том, что Казахстан добился определенных успехов на международной арене, в сфере экономики, и вероятность революционных процессов в стране является одной из самых низких. Но есть мнение, что стабильность здесь во многом иллюзорна. Об этом могут говорить следующие факты (см. таблицу).
Узбекистан . При наличии серьезных дестабилизирующих факторов (см. таблицу) в целом ситуация в Узбекистане находится под жестким контролем государства, возможность «узбекской весны», по мнению экспертов, без внешнего вмешательства маловероятна. К радикальным переменам узбекский народ пока не готов 12.
Киргизия . Республика имеет печальный опыт «цветочных» революций: за последние семь лет здесь произошли уже две революции, свергнувшие сначала в 2005 г. президента Аскара Акаева, а в 2010 – пришедшего ему на смену Бакиева. Острый политический кризис и «проблемные зоны» (см. таблицу) делают вероятность революционных процессов в Киргизии высокой.
Таджикистан. Беднейшая страна из бывших советских республик. Современную ситуацию в Таджикистане можно охарактеризовать как нестабильную (см. таблицу). Республика пережила пятилетнюю кровопролитную гражданскую войну (1992–1997 гг.) 13. Система политической власти в Таджикистане базируется на мирном соглашении между нынешним руководством во главе с Э. Рахмоном и Объединенной таджикской оппозицией (ОТО), достигнутом в 1997 г. По мнению одного из ведущих российских специалистов по проблемам ислама профессора А. В. Малашенко, вероятность революционных процессов в Таджикиста- не самая высокая в регионе.
Туркменистан остается закрытой страной 14 с отсутствием альтернативных политических партий 15, СМИ и прочих свобод (см. таблицу). Вероятность революционных процессов в Туркмении низкая, но обострение межплеменных конфликтов, вызванных политикой «племенного национализма», по оценкам некоторых экспертов 16, создает возможность социального взрыва. Большая часть экономической статистики Туркмении является государственной тайной.
Межстрановые отношения государств ЦА и Каспия осложняет столкновение национальных экономических интересов. Во-первых, вопрос территориального размежевания Каспийского моря с разделом ресурсов шельфа – нефти и газа, а также его биологических ресурсов и акватории между пятью прикаспийскими государствами 17.
Вторая проблема на этом уровне – вода и гидроэнергетические ресурсы [Рудов, 2011. C. 101]. В силу географического расположения Узбекистан, Казахстан и Туркменистан попадают в гидрозависимость от Таджикистана и Кыргызстана, обладающими мощными водными запасами 18.
В-третьих, спорные вопросы пограничного размежевания – земля Ферганской долины: Таджикистан – Кыргызстан – Узбекистан 19, нерешенность которых представляет еще и крупную этническую проблему: по разные стороны границ Кыргызстана с Таджикистаном, Узбекистана с Кыргызстаном проживают крупные диаспоры этих народов в виде анклавных вкраплений в каждом из государств.
Трудноразрешимый историко-территориальный конфликт Таджикистан – Узбекистан, возникший после распада СССР: по мнению определенной части элиты Таджикистана, города Бухара и Самарканд, населенные таджиками, «несправедливо» достались Узбекистану по национально-территориальному делению 1920 г.
*
|
Политическая ситуация |
Экономическая ситуация |
Вызовы безопасности |
Социальная сфера |
|
Казахстан |
|||
2012 гг. среди 179 стран – 154-е место |
|
|
|
|
Узбекистан |
|||
|
|
|
|
*
Таблица составлена автором по материалам СМИ.
Факторы нестабильности ситуации в государствах ЦА
|
Политическая ситуация |
Экономическая ситуация |
Вызовы безопасности |
Социальная сфера |
|
Киргизия |
|||
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|||
|
|
|
|
|
Политическая ситуация |
Экономическая ситуация |
Вызовы безопасности |
Социальная сфера |
|
• аграрный сектор малопродуктивен |
|
населения |
|
Туркменистан |
|||
|
• нежелание правительства осуществить рыночные реформы |
|
|
Субрегиональный уровень характеризуется, в первую очередь, разобщенностью стран региона, обусловленной превалированием политических амбиций правящих элит, преследующих узкие националистические интересы в межгосударственных отношениях [Рудов, 2011. С. 103].
Во-вторых, зависимость стран региона от внешних субсидий порождает борьбу за региональное лидерство и несогласованность в вопросах внешней политики.
В-третьих, демографические проблемы: высокий уровень рождаемости, большая плотность населения (плотность населения в Ферганской долине 300–500 чел. на кв. км) 20, как следствие – нехватка жизнеобеспечивающих ресурсов, земли и воды.
В-четвертых, проблемы ухудшения окружающей среды: повышение уровня Каспия, способное привести к затоплению огромной густонаселенной территории; сложная ситуация в районе Аральского моря; низкое качество питьевой воды и, как следствие, эпидемии инфекционных и респираторных заболеваний; хранение радиоактивных отходов 21.
Следующий, пятый фактор – рост религиозного экстремизма, фундаментализма и международного терроризма (Афганистан). Повышение активности зарубежных исламских экстремистских организаций и движений 22 в регионе и, как следствие, диверсионно-террористическая активность в самом регионе и непосредственно граничащих с ним (Кавказ 23, Ближний Восток, Южная Азия, СУАР); диверсии на транспорте, нефте- и газопроводах, объектах электроэнергетики (электростанции и линии электропередач) и связи, хищения нефти и газа из магистральных трубопроводов.
В этой связи для ЦА подтверждается гипотеза доктора политических наук, профессора А. Д. Богатурова о том, что в современных условиях масштабные энергетические проекты провоцируют и будут провоцировать международные конфликты, чью географическую конфигурацию будет сложно спрогнозировать в отрыве от анализа политических рисков вдоль маршрутов пролегания трубопроводов. Не исключено, что газо- и нефтепроводы в этом веке будут играть двусмысленную (экономически прогрессивную и военно-политически провоцирующую) роль, которую в международных отношениях ХIХ и ХХ в. играли железные дороги [Богатуров, 2005].
Шестой фактор – большая и трудноразрешимая проблема – транзит наркотиков из Афганистана, осложняемая отсутствием строго контролируемых границ, как внешних границ СНГ, так и между странами-соседями. Все это усугубляется предстоящим выводом военных сил США из Афганистана.
К сожалению, это неполный список из многообразия угроз региональной безопасности. Трудно недооценить каждый из перечисленных факторов и ранжировать их по степени риска. Ясно одно – эти противоречия создают почву для возникновения конфликтных ситуаций (в том числе с привлечением военной силы) между странами региона и повод для вмешательства нерегиональных государств.
Китай делает ставку на быструю и эффективную реализацию своих транспортных, энергетических и инвестиционных проектов в двусторонних форматах. Но долгосрочность действующих и осуществление перспективных энергетических проектов, в том числе и китайских, находится в прямой зависимости от обеспечения их безопасности. Каким образом Китай гарантирует безопасность своих многочисленных энергетических объектов в регионе – тема отдельного исследования.
POWER STRATEGY OF CHINA:
THREATS AND RISKS OF SAFETY IN CENTRAL ASIA
Список литературы Энергетическая стратегия Китая: угрозы и риски безопасности в Центральной Азии
- Богатуров А. Д. Россия в глобальной системе обеспечения энергетической безопасности//Южный фланг СНГ. Центральная Азия -Каспий -Кавказ: энергетика и политика/Под ред. А. В. Мальгина, М. М. Наринского. М., 2005. Вып. 2.
- Корецкий В. А. К вопросу о социально-политической ситуации в Центральной Азии (геополитический анализ)//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2008. № 2. С. 29-38.
- Омаров Н. «Столетие глобальной альтернативы» для формирования нового пространства безопасности в постсоветской Евразии//Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 2 (32).
- Пань Гуан. Энергетическая политика Китая и обеспечение энергетической безопасности в Центральной Азии//Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 6.
- Рудов Г. А. Проблемы и сложности развития государств Центральной Азии//Обозреватель. 2011. № 4 (255).