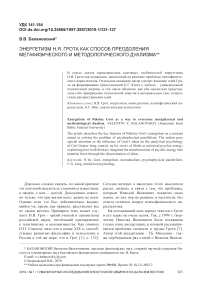Энергетизм Н.Я. Грота как способ преодоления метафизического и методологического дуализма
Автор: Балановский Валентин Валентинович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье дается характеристика ключевых особенностей энергетизма Н.Я. Грота как концепции, нацеленной на решение проблемы психофизического параллелизма. Отдельное внимание автор уделяет влиянию идей Грота на формирование представлений К.Г. Юнга о либидо - универсальной психической энергии, в том числе объясняя, как оба мыслителя представляли себе превращение психической энергии в материальную силу посредством распространения идей
Н.я. грот, энергетизм, монодуализм, психофизический параллелизм, к.г. юнг, аналитическая психология
Короткий адрес: https://sciup.org/170175882
IDR: 170175882 | УДК: 141.154 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-1/121-127
Текст научной статьи Энергетизм Н.Я. Грота как способ преодоления метафизического и методологического дуализма
Довольно сложно сказать, по какой причине тот или иной мыслитель становится известным, а память о нем – долгой. Доподлинно известно только, что при жизни везет далеко не всем. Однако если это был действительно выдающийся ум, время, как правило, расставляет все по своим местам. Примером тому может служить Н.Я. Грот – яркий ученый и организатор российской науки, тяготевший одновременно к позитивизму и неокантианству. Как отмечал П.П. Соколов, мало кто в конце ХІХ в. способствовал развитию философии и психологии в России в той же мере, что и Грот [11, с. 132].
Сегодня интерес к наследию этого мыслителя растет, видимо, в связи с тем, что проблемы, которым Николай Яковлевич посвятил свою жизнь, до сих пор не решены, в частности, без ответа остается вопрос психофизического параллелизма.
На сегодняшний день корпус текстов о Гроте и его идеях не очень велик. Так, с 1999 г. творчеству Николая Яковлевича была посвящена только одна диссертация, в которой рассматривается проблема личности в трудах Грота [7]. Автор этой диссертации – Т.Б. Михалева – также опубликовала ряд статей о Николае Яковле- виче [8; 9], в том числе о его роли в становлении научной психологии в России. В одной из них она даже отмечает, что Грот оказал влияние на взгляды известного французского психолога Т. Рибо [9, с. 93]. Так это или нет, сказать без отдельного исследования сложно – Михалева не останавливается подробно на данном вопросе. Мне удалось установить лишь то, что в журнале Рибо публиковались статьи Грота (как минимум одна) [20], обзоры его статей авторства А. Бланша [18], Ф. Ланна [24], некоего Ж.Д. де Т. [22], а также ссылки на сообщения о смерти Николая Яковлевича [25; 26]. Среди других современных авторов, которые уделяли внимание отдельным аспектам наследия Грота, можно назвать А.Т. Павлова [10], С.Н. Клименченко [5], И.Д. Архангельскую [1]. Отдельно стоит отметить вышедшую в прошлом году статью Б.В. Межуева, который указал некоторые точки взаимовлияния Грота и Соловьева [6]. Чем же обусловлен интерес к Гроту со стороны современных исследователей?
Начать следует с того, что Грот заложил основы научной психологии в России. Так, он был одним из пионеров экспериментального изучения эмоциональной сферы человека. Некоторые авторы отмечают, что Грот стал самым первым в России профессиональным психологом [8, с. 71]. Особое внимание Николай Яковлевич уделял методу самонаблюдения [9, с. 92–93], усовершенствовав его за счет открытий современной ему опытной науки [4, с. 276–277]. Ученик Грота Г.И. Челпанов впоследствии создал первый в нашей стране институт экспериментальной психологии [9, с. 93] и подготовил ряд выдающихся русских мыслителей, в частности – Г.Г. Шпета, который испытывал чувство глубокой благодарности к своему наставнику [15, с. 14].
К безусловным заслугами Грота как организатора науки можно отнести активизацию и упорядочение работы Московского психологического общества, председателем которого он стал в 1888 г., а также учреждение им в 1889 г. журнала «Вопросы философии и психологии», редактором которого Николай Яковлевич работал до 1896 г. Издание стало одним из первых российских профессиональных научных журналов для философов и психологов, и уж точно первым с широкой тематикой, не ограничивающейся узкими рамками школ и направлений.
Несмотря на важную роль в становлении русской философской мысли, Грота более радушно принимали в Европе, чем в России. Он бывал на заграничных стажировках сначала в Берлине, Гейдельберге, Страсбурге, затем в Вене, Мюнхене, Штутгарте, Тюбингене. Во время своих европейских путешествий Николай Яковлевич посетил также Триест, Венецию, Флоренцию, Геную, Милан, Баден-Баден и чешский Теплиц. Везде Грота встречали тепло. В Германии он посещал лекции К. Фишера, М. Вебера, Э. Лаа-са, М. Либмана, Х. Зигварта [14, с. 24–37]. Николай Яковлевич даже имел возможность выступить с докладом на заседании Берлинского философского общества [14, с. 25], где ознакомился с тем, как в подобных объединениях организована научная и общественная жизнь, что впоследствии пригодилось в Москве. Кстати, уровень философской подготовки берлинских коллег Грота совсем не впечатлил.
Особенно доволен Грот остался свободной и в то же время проникнутой глубочайшим взаимным уважением атмосферой профессорской корпорации Тюбингена [14, с. 35]. Он писал: «Всех профессоров знаю лично и со многими сошелся. Все они любезны ко мне и ввели меня в свой круг, как своего, родного» [14, с. 35]. Именно в Тюбингене Грот познакомился с близким неокантианству философом и психологом Х. Зигвартом [14, с. 36–37], сыгравшим значительную роль в подготовке докторской диссертации Николая Яковлевича.
Что же касается соотечественников, то к Гроту они относились неоднозначно. Одной из причин была чрезвычайная широта взглядов Николая Яковлевича и, вероятно, его общественная активность. Очень эмоционально об этом пишет Соколов, отмечая, что Грота «считали даже философским хамелеоном, готовым приспособить свой символ веры к любому умственному течению. Как много ложного и несправедливого в этих суровых приговорах!» [11, с. 129].
На самом деле Грот, по признанию коллег, всегда был искренен в своих убеждениях, никогда за модой не гнался и «был неподдельно убежден в правильности всех своих идей и, изменяя свои взгляды, упрямо думал, что он лишь точнее формулирует и дополняет их» [11, с. 129]. Примерно в том же духе высказывался Вл.С. Соловьев, который отмечал, что такие смены курсов свойственны «всякому живому уму», но при этом подчеркивал, что подобные изменения не касались «ни формального средоточия , ни общего направления его философствования. Этого он никогда не менял» [13, с. 388]. Причем, по мнению Соловьева, мысль
Грота была всегда направлена вглубь и вверх – от идей Г. Спенсера к Д. Бруно, а от Бруно – к Платону и Аристотелю [13, с. 389].
Ключевой идеей, вокруг которой и ради которой Грот соединял противоречивые точки зрения, была идея эволюции. В этом сказалось сильное влияние Спенсера на формирование его мировоззрения [11, с. 103–104]. Причем эволюцию он понимал не в узкобиологическом смысле, а, скорее, в духе современного глобального эволюционизма. Грот пытался реконструировать целостную картину «поступательного развития души и вселенной» [13, с. 388] от самого начала мира до сегодняшнего дня .
Поиск Гротом единого начала не ограничивался метафизикой. Николай Яковлевич также вел его в области методологии науки. Грот пытался найти принцип, способный увязать воедино экспериментальную психологию, философию и точные науки [11, с. 123], и тем самым построить целостную научную картину мира. Этим принципом стал закон сохранения энергии, который, как полагал Грот, одинаково применим в отношении психических и физических процессов. Основанием для такого вывода были как открытия предшественников, в частности В. Оствальда и К. Лассвица, так и собственные теоретические и экспериментальные наработки Николая Яковлевича [11, с. 123].
За переход на энергетическую точку зрения Грота упрекали в материализме и позитивизме. Он был против таких интерпретаций. Более того подчеркивал, что «новое учение об энергии носит совершенно идеалистическую окраску» [4, с. 249]. Гроту претил подход К. Фохта, который полагал, будто «мысль выделяется из мозга, как желчь из печени» [4, с. 245]. Годами позже с подобными нападками и обвинениями в материализме столкнулся К.Г. Юнг. Он, как и Грот, тоже решительно отвергал редукционистские подходы в изучении психики. Особенно его раздражала эпифеноменалистская точка зрения. Дело в том, что в 1912–1928 гг. единственным несомненным для Юнга утверждением в ответе на вопрос о соотношении психических и физических процессов было то, что, во-первых, эта связь имеется, и, во-вторых, что она совершенно точно не может быть охарактеризована с позиции редукционизма. При этом, как и Грот, Юнг практически теми же словами упрекает Фохта [23, p. 7].
В попытке соединить противоречия различных картин мира с помощью энергетизма Грот создает собственную концепцию – монодуа- лизм. Главная цель – найти решение проблемы психофизического параллелизма. Нужно сказать, что Грот был не одинок в своем рвении. Первые варианты постановки этой задачи можно обнаружить еще у Р. Декарта и Б. Спинозы [19, p. 106]. Окончательно она формулируется с появлением рациональной и эмпирической психологии, а ее неразрешимость констатировалась уже во второй половине ХVІІІ в. Так, Ф.Х. Баумейстер описывал целых три возможных способа соединения души с телом, однако определить, какой из них верный или хотя бы предпочтительный, на тот момент не представлялось возможным [17, p. 296–298; 310–319]. Несмотря на это, исследователи не оставляли своих попыток справиться с задачей. В итоге, когда к решению проблемы психофизического параллелизма подключился Грот, предложенных возможных вариантов взаимодействия души и тела стало крайне много, и потребовалось как-то систематизировать весь хаос имевшихся представлений. С этим прекрасно справился Л. Буссе [19]. За основу выделения классов концепций психофизического параллелизма он взял категории модальности, количества и качества. По первому основанию Буссе разделил все «параллелизмы» на эмпирические и метафизические, по второму – на частичные и универсальные, по третьему – на материалистические, реалистически-монистические, иде-алистически-монистические и дуалистические [19, p. 67–118].
Грота можно отнести к представителям иде-алистически-монистических концепций психофизического параллелизма, так как он полагал, что раздвоенность души и тела может быть устранена на уровне сознания. Действительно, если мы примемся настаивать на субстанциальной точке зрения, то будем вынуждены констатировать неразрешимый дуализм, постулирующий принципиальную обособленность души и тела. В свою очередь, монизм достигается только сменой субстанциональной точки зрения на функционально-процессуальную. Дело в том, что хоть параллелизм и возникает из-за наличия двух независимых субстанций – психической и физической, тем не менее они находятся в постоянном взаимодействии, характеризующемся взаимосогласованностью или взаимозависимостью. Причем Грот настаивал, что это утверждение более не является гипотезой, а приобрело статус научного факта [4, с. 261–262]. С функциональной точки зрения все предстает в форме единого психического про- цесса [4, с. 276]. Следовательно, если мы будем концентрироваться не на замерших в их вечности субстанциях, а на их взаимодействии, тогда все встанет на свои места, поскольку любой процесс нуждается в энергии. Поэтому именно энергия является искомым универсальным объединяющим началом.
В поддержку данной гипотезы Грот, помимо прочего, разрабатывает концепцию взаимопревращения одних форм энергии в другие и их восходящей эволюции. Так, он полагал, что внизу энергетической иерархии находится механическая энергия, а на самой вершине – психическая [4, с. 276]. Раз так, то с позиций монодуализма довольно легко объяснить паранормальные феномены. Например, телекинез есть не что иное как обратное превращение психической энергии в механическую, а пирокинез – психической в тепловую. Правда, можно очень далеко зайти в выведении следствий из этой гипотезы, ведь напрашивается предположение, что и психическую энергию можно восполнить за счет электрической или энергии электромагнитного поля. С другой стороны, учитывая, насколько мы зависим от источников электромагнетизма – всевозможных гаджетов, которые могут заменить и еду, и отдых, то иной раз задумаешься, а не подзаряжаемся ли мы от них?
Еще одной точкой приложения философского синтеза у Грота стала русская идея. По его представлениям, как их передает Соколов, «мы, русские, призваны выдвинуть на первый план нравственные интересы жизни и дать новый синтез действительности под этическим углом зрения: наша философия должна быть ни больше, ни меньше, как «философией спасения мира от зла»» [11, с. 132]. Причем в данном случае не может быть никакой речи о национализме, что подчеркивал Соловьев, по замечанию которого Грот отвергал такой подход «во имя истинно-национальной русской идеи, широкой и всеобъемлющей» [12, с. 416].
Влияние идей Грота простиралось не только на представителей русской психологической и философской мысли, в том числе на Челпано-ва и Соловьева [6], но также и на выдающихся мыслителей Европы. В связи с этим необходимо привести один важный факт, который зачастую ускользает от исследователей: Грот оказал влияние на развитие теоретического базиса аналитической психологии Юнга. Последний, кстати, этого не скрывал. Грот и его работы не менее шести раз (в том числе в примечаниях) упоминаются в фундаментальной, можно даже сказать, программной статье Юнга «О психической энергии» [23, p. 7–8; 15]. Здесь впервые дается всесторонний обзор теории либидо – универсальной психической энергии. Казалось бы, шесть ссылок – это не так много. Однако в данном случае важен контекст. Например, Юнг, имея в своем теоретическом арсенале идеи известных энергетистов, таких как В. Оствальд, О. Кюльпе или К. Лассвиц, даже не берется что-то пересказывать своими словами и дает пространную прямую цитату [23, p. 8] из статьи Грота [21, p. 323]. В этой цитате сформулированы три важнейших аксиомы монодуализма. Согласно первой, психические энергии, как и физические, обладают поддающимися измерению параметрами – количеством и массой. Вторая гласит, что психическая потенциальность и работа могут перетекать друг в друга. Третья заключается в том, что энергии физические и психические могут трансформироваться друг в друга. К этому перечню необходимо добавить нулевую, пожалуй, наиболее важную для Юнга аксиому о том, что к психической энергии применим принцип сохранения – это предположение лежит не только в основе учения о либидо, но также является базисом теории комплекса, с которой началось отделение аналитической психологии от классического психоанализа.
Нулевую, первую и вторую аксиомы Юнг в целом разделяет. Третью он категорически не принял [23, p. 8], по крайней мере, на момент опубликования статьи «О психической энергии» (1928). Правда, с течением времени позиция Юнга изменилась и стала ближе тому, о чем писал Грот. Превращение психических энергий в физические и наоборот перестает быть чем-то невозможным в аналитической психологии по мере развития таких понятий, как психойдный фактор, синхронистичность [3, с. 120] и unus mundus [2, с. 85–87]. Так, последние два концепта помогают Юнгу при объяснении природы паранормальных явлений, в частности, телекинеза.
Здесь же стоит сказать несколько слов о сходстве воззрений Грота и Юнга на возможность передачи психической энергии, а также ее трансформации в материальную силу посредством трансляции и восприятия идей. Так, Грот пишет, что сконцентрированная в мыслях психическая энергия может, подобно физической энергии, перемещаться в пространстве с течением времени посредством материальных носителей – символов, которые по мере их распознавания читателями «усиливают или осла- бляют психическую энергию множества человеческих организмов, или же видоизменяют ее проявления и формы ее разряжения» [4, с. 271]. Как яркий пример такого процесса Николай Яковлевич приводит набирающее силу и собирающее сторонников по всему миру учение Л.Н. Толстого.
Юнг рассуждает схожим образом, но в большей степени в контексте распространения идей, чуждых ненасилию. Делает он это для того, чтобы показать, что мысль, вопреки мнению позитивистов и скептиков, вполне реальна, а не эфемерна. Юнг пишет, что «мысль была и есть , даже если она не имеет никакого отношения к осязаемой реальности; она даже обладает способностью воздействовать на окружающий мир, в противном случае никто бы не заметил ее» [16, с. 428]. Причем воздействие это может быть настолько велико, что «наш немало восхваляемый разум и безгранично переоцененная, сравнительно с ее реальными возможностями, воля иногда совершенно бессильны перед лицом “нереальных” мыслей» [16, с. 429]. Результат такого пренебрежительного отношения к психическому для Юнга был очевиден, поскольку он стал живым свидетелем воплощения нереальной идеи нацизма в реальную материальную силу, разрушительное действие которой изменило миропорядок. Остается только удивиться тому, насколько точным оказались юнговские предостережения, ведь статья «Реальное и сверхреальное», из который взяты приведенные цитаты, написана в 1932 г. и опубликована в Берлине в декабре 1933 г., когда процессы создания новой реальности в Германии еще не были столь очевидными.
Именно в пренебрежении к нематериальной составляющей психики Юнг видит дефект не только современной ему позитивистской психологии, но и в целом науки и западного рационального мировосприятия. Он настаивал на том, что «ограничение материальной реальностью вырезает чрезвычайно большой кусок из реальности как целого, который, тем не менее, остается всего лишь фрагментом, а все вокруг оказывается скрытым в полумраке, который следовало бы назвать нереальным или сверхреальным» [16, с. 427]. Поступая так, западное сознание совершает очень серьезную ошибку, «когда рассматривает психическое только в качестве реальности, производной от физических причин» [16, с. 430].
В заключение отмечу, что, возможно, идеи представителей энергетизма не получили ши- рокого распространения в конце ХІХ в. в силу того, что энергетическая реальность еще не стала тотальной. Наука только-только открыла законы термо- и электродинамики, и этим знаниям лишь предстояло проникнуть сначала в производственную сферу, а потом в быт. В итоге идеи Грота и близких ему мыслителей оказались забыты и отметены раньше, чем стали по-настоящему актуальными. Сегодня же реальность кардинально изменилась. Производство и использование энергии стало фактором, определяющим все сферы жизни человека. Поэтому, скорее всего, энергетизм, в том числе и в форме монодуализма Грота, в скором времени ждет второе рождение.
Список литературы Энергетизм Н.Я. Грота как способ преодоления метафизического и методологического дуализма
- Архангельская И.Д. Н.Я. Грот и первый в России философский журнал // Вопросы истории. 2000. № 3. С. 130-134.
- Балановский В.В. Решение проблемы психофизического параллелизма Н.Я. Гротом и К.Г. Юнгом // Философские науки. 2015. № 12. С.74-91.
- Балановский В.В. Н.Я. Грот и К.Г. Юнг: О вкладе русской философии в развитие аналитической психологии // Вопросы философии. 2016. № 6. С.115-124.
- Грот Н.Я. Понятия души и психической энергии в психологии // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 2 (37). С. 239-300.
- Клименченко С.Н. Грот о душе // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2011. Т. 14. № 2. С. 292-295.