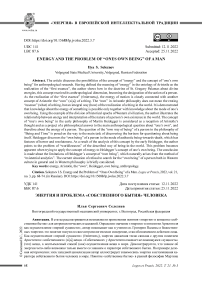Энергия и проблема «собственного бытия» человека
Автор: Селезнев Илья Сергеевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возможности применения понятия «энергия» и концепта «собственное бытие» для антропологических изысканий. Определив значение «энергии» в онтологии Аристотеля как осуществление «первой сущности», автор показывает как в учении св. Григория Паламы о божественных энергиях это понятие получило свое антропологическое измерение, став обозначением действия лица. Как осуществление «первой сущности» (›рьуфбуйт), энергия движения тесно связана с другим понятием Аристотеля: «собственного» (еойж) вещи. «Собственное» у Аристотеля означает не покоящуюся «сущность» (что) вещи, а неотъемлемый способ (как) осуществления вещи в мире. Демонстрируется, что знание об энергии чего-либо возможно только вместе со знанием о характере собственного бытия. На примере деления исторических эпох западной цивилизации автор иллюстрирует взаимосвязь энергии и истолкования характера собственного бытия человека в мире. Понятие «собственное бытие» в ранней философии Мартина Хайдеггера рассматривается как рецепция мысли Аристотеля и как проект философского ответа на основной антропологический вопрос о «собственном», а значит и об энергии человека. Вопрос о «собственном способе бытия» человека в философии «Бытии и времени» ставится на пути к основной задаче обнаружить горизонт для вопрошания о самом бытии. «Собственное бытие» человека Хайдеггер обнаруживает в модусе аутентичного бытия-к-смерти, имеющем черты ужаса и решимости. В результате проведенного анализа этого понятия у раннего Хайдеггера, автор указывает на проблему «безмирности» описанного мыслителем собственного способа бытия-в-мире. Эта проблема становится очевидной при попытке применить понятие энергии к хайдеггеровскому понятию собственного бытия. Делается вывод об ограниченности понятия Хайдеггера «собственное бытие», закономерно возникающее в методе «экзистенциальной аналитики». Кратко рассматривается современная ситуация отказа от поиска «собственного бытия» человека как в западной культуре в целом, так и в западной философии.
Энергия, аристотель, «собственное», хайдеггер, собственное бытие, антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/149141531
IDR: 149141531 | УДК: 141 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.3.7
Текст научной статьи Энергия и проблема «собственного бытия» человека
DOI:
Цитирование. Селезнев И. С. Энергия и проблема «собственного бытия» человека // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 3. – С. 68–74. – DOI:
Многие понятия, присвоенные сегодня прикладными сферами науки и техники, обладали когда-то онтологическим размахом. Историческая судьба некоторых сложилась так, что стало почти невозможным различить в современном употреблении их исходный смысл. «Энергия», бывшая одним из фундаментальных понятий онтологии Аристотеля, странным образом обрела двойную жизнь в истории западной мысли. С одной стороны, «энергия» вошла в дискурс богословия через учение о божественных энергиях св. Григория Паламы, с другой стороны, стала термином физики, получившем там значение квази-вещества. Первое событие сделало возможным дальнейшую антропологизацию этого понятия, что было предпринято, например, С.С. Хоружим в его проекте «синергийной антропологии» [Хоружий 2015, 20], однако в широком хождении эта тенденция осталась уделом бульварной] псев-доэзотерической литературы, повествующей о неких таинственных нераскрытых силах человеческой натуры.
Что «энергия» обладает существенным эвристическим потенциалом для антропологии далеко не очевидно, особенно если учесть, насколько это понятие перегружено сегодня одновременно физикализмом и квазимагизмом в узусе языка. Однако экспликация смысла концепта на почве аристотелевой онтологии покажет и антропологические возможности этого понятия.
По Аристотелю, энергий есть две: энергия покоя и энергия движения. Первая является «онтологической» энергией покоя перво-двигателя, выступающей условием возмож- ности всех проявлений энергии движения в мире. Отечественный специалист и переводчик Аристотеля Татьяна Васильева предлагает переводить греческое ενέργεια на русский язык как «осуществление». У Аристотеля парным к понятию «энергия» выступает «энтелехия», означающая осуществленность. Сам Аристотель для иллюстрации этих понятий приводит в пример строительство дома, где само строительство есть «энергия», осуществление, а дом – «энтелехия», осуществ-ленность формы.
Согласно Хайдеггеру, «энергия» в философии Аристотеля занимает то же место, что «идея» у Платона, означая не один из феноменов мира, но выступая именем самого бытия [Heidegger 2002, 44]. Иными словами, аристотелева ενέργεια есть метафизическое понятие, схватывающее то, как существует мир в целом – осуществляясь. В том и состоит ранний решающий разрыв между платоновским и аристотелевским мышлением, что Платон ищет « чтойность» вещей и находит ее в покоящихся идеях, в то время как мысль Аристотеля захвачена как- бытием сущего, способами его осуществления («энергии»).
«Энергия движения» у Аристотеля означает не всякую подвижность вещей, но движение их сущности. Здесь уместно вспомнить, что Аристотель говорил о первой и второй сущности, как о сущности единичной вещи и сущности родовой (substantia concreta, substantia abstracta). Собственно, «субстанция» есть ла- оё( пеау ёаёиёа n ада^. > поатат^ («ипоста-сис»), слово, которым Аристотель называл единичное бытие вещи. «Первая сущность»
вещи – не ее надмирный «эйдос», но собственный ей способ осуществления в мире. С этой точки зрения, сущность топора не состоит в вечной идее топора как такового, а является раскалыванием. Энергия движения есть осуществление этой первой сущности вещей, иными словами, движение сущности.
Энергия движения неразрывно связана с тем, что у Аристотеля именуется «собственным» вещей (εξιζ) [Колесников 2019, 18]. Собственные свойства вещи есть неотъемлемый от нее способ осуществления в мире, тот способ, который раскрывает видовую аутентичность вещи. Благодаря энергии движения становится возможным фактическое проявление ее собственного бытия.
Св. Григорий Палама в XIV в. делает понятие энергии центральным для своего учения. Хотя сущность Бога непознаваема, человек может приобщиться к энергиям Бога, исходящим от Его сущности, учит Палама. Благодать, милосердие, любовь есть божественные энергии, которые одновременное манифестируют сущность Бога и являются Его актами. Христианская мысль в учении Паламы берет теперь «энергию» не только в смысле движения сущности, но и действия лица, что абсолютно совпадает друг с другом лишь у Бога. На месте первичной энергии покоя Аристотеля в учении Паламы стоит так называемый «перихоресис» – общение без слияния ликов Троицы между собой. Так открываются возможности для антропологического понимания и употребления «энергии».
Подобную же судьбу имело в западной мысли понятие › πόστασις. В IV в. н. э. Василий Великий закрепил за понятием «сущность» значение второй, родовой сущности, а ипостасью назвал единичное бытие и, что самое главное, бытие лица. Ипостась, значившая неразложимую самотожественную основу единичных вещей у позднеантичных мыслителей, в христианском богословии персонифицируется, синтезируя в себе значение «основания» – теперь онтологического – и значение «личностного» [Новая философская энциклопедия 2010, 101].
В старославянском языке слово «собьство» (которого было образовано позднее «собственный» и «собственность») выступало в значении «сущность» и служило эк- вивалентом для греческого «ипостась» [Колесов 2021, 429]. Греческое наследие обеспечило то, что понятие «собственный» до сих пор хранит в себе два этих значения: неотъемлемый, субстанциональный и личностный, принадлежащий лицу. Интуиция русского языка подсказывает, что фраза «собственный звук этой гитары» не органична в отличие от «собственный голос этого человека», ибо, если вслушаться в слово «собственный» в первом выражении, можно заметить в нем налет магического одушевления инструмента, превращения его в лицо. Так, слово «собственный», пусть и неясным пока еще образом, указывает на точку пересечения онтологии и антропологии, на возможность мыслить неотъемлемый способ бытия лица в мире.
Разумеется, такие ходы мысли широко известны, и первым вспоминается изречение того же Аристотеля в «Политике», где человек определяется как Ζώον πολιτικόν [Аристотель 2010, 163]. Определяя человека как «существо политическое», Аристотель не говорит о природной сущности человека как биологического вида, которая бы не зависела от его фактического положения в мире 1. Однако, что более очевидно, не идет здесь и речи о произвольно выбранных возможностях осуществления человека наряду с другими возможностями. Иными словами, Аристотель сообщает здесь именно о «собственном» человека, которое одновременно принадлежит ему и является его основанием. Первое означает, что эти свойства не пассивно обеспечены человеку природой, но требуют активного обращения с ними, иными словами, они у него есть по способу осуществления. Второе значит, что, хотя человек обладает этими свойствами, он и сам принадлежит им как своему неотъемлемому способу бытия в мире. Однако «собственное» в случае человека хотя и онтологически неотъемлемый способ его бытия, но не неизбежный, ибо может быть и не осуществлен фактически.
Теперь видно, что «энергия» у Аристотеля значит осуществление не неподвижной «сущности» вещей, а «собственного» вещей – онтологически неотъемлемых, но онтически (говоря терминами Хайдеггера) не гарантированных свойств. В антропологическом смысле «энергией» человека нужно было бы называть осуществление собственного способа бытия человека в мире. И, похоже, что от ответа на этот основной антропологический вопрос исторически зависела и характерная энергия эпохи.
Приведем только два схематичных примера. Ренессанс, увидев в человеке творца подобного Богу и творение как онтологически преимущественный способ бытия человека, породил колоссальную энергию искусства. Новое время или классическая эпоха сделала ставку на овладевающий миром способ бытия, назвав человека «субъектом» а мир «объектом», которым человек овладевает с помощью научной рациональности. Так, наука и производство впервые оказались в столь тесной связи, являясь «энергиями» одного и того же овладевающего способа бытия: наука добывает знания о природе, конструируя модели будущих вещей, а производство изготовляет вещи (технику), подчиняющие себе природу.
В XX в. понятие «собственное» возвращается в западную философию именно в связи с мыслью о человеческом бытии. В ранней философии Мартина Хайдеггера, вдохновленной во многом Аристотелем, разрабатывается так называемый «экзистенциальная аналитика» способов бытия человека в мире. Хайдеггер, отходя от эссенциалистской антропологии Нового времени, назвавшей человека Homo Sapiens, рассматривает бытие человека не как воплощение природной сущности, некоей чтойности, а как не обеспеченные никакой предзаданной природой способы эк-зистирования в мире. Бытие человека (dasein) негативно, человек по слову Хайдеггера – это всегда «еще-не <…> – постоянная недостача» [Хайдеггер 2015, 242] и, если у него есть некая природа, то она парадоксальным образом и в буквальном смысле – ничто. Человек осуществляется, но никогда до своей смерти не достигает осуществленности в отличие от вещей мира.
В этой ситуации мысль Хайдеггера и подходит к «собственному»: есть ли преимущественный, а именно собственный способ бытия dasein среди всех доступных способов экзистирования? Если мы мыслим «собственное» эссенциалистски как «сущностное», этот вопрос покажется безнадежно скучным, повто- рением который век одного и того же разговора о «природе человека». Однако Хайдеггер вовсе не интересуется сущностью человека, отказываясь даже и от самого слова «человек», говоря вместо этого «dasein» – «вот-бытие» или «присутствие». В каком тогда смысле Хайдеггер видит возможность вести речь о собственном способе бытия присутствия?
В «Бытии и времени» этот вопрос является инструментальным и лежит на пути к постановке вопроса о бытии. Для того чтобы получить возможность мыслить бытие, необходимо обнаружить его проявления в фактичности существования человека, ибо последнее непосредственно доступно нашему рассмотрению в отличие от бытия как такового. Иными словами, бытие нам дано как свое бытие. Но и свое бытие еще далеко не самоочевидно, ибо «ближайшим образом» человек погружен в окружающее его сущее, рассеян в нем. Погруженность в окружающий мир и, особенно, общий, то есть ничей мир (“das Man”), заслоняет собственность бытия человека и является «несобственным способом» экзисти-рования. Поэтому избранный Хайдеггером методологический путь предполагал обращение к наиболее «безмирному», а значит собственному опыту человека, в котором бы одновременно он сталкивался со своим бытием, то есть к опыту собственного бытия.
Хайдеггер обнаруживает такой опыт в модусе бытия-к-смерти. Смерть, понятая аутентично не как случай смерти, произошедший с кем-то в мире, а как возможность своего собственного существования есть, по слову Хайдеггера, «самая своя способность быть» [Хайдеггер 2015, 250]. Смерть потому самая своя возможность, что не является ничем из окружающего нас сущего и никак в нем не представлена и в нем не проявляется: человек незаменим другим в своей смерти. Выражение «чужая смерть» с этой точки зрения – оксюморон: мы способны распознать лишь смертный случай, но не саму смерть другого, она нам может быть доступна, лишь как собственный опыт. Иными словами, так как собственная смерть, пока человек существует в мире, является чистой возможностью, всякое истолкование смерти как действительности («фактичности»), уводит человека от ее аутентичного понимания.
Такое несобственное понимание смерти как одной из фактичностей мира ведет к переживанию страха смерти. Страх как модус «расположения» («befindlichkeit», иногда переводят как «настроение») присутствия есть одновременно распознание угрозы в мире и возможности ее избежать. Но собственная смерть не есть то, что можно избежать, а значит страх смерти – неаутентичное ей истолкование. Ужас (Angst), в отличие от страха (Fuhrst) есть опыт раскрытия неизбежной и не зависящей от обстоятельств угрозы, то есть смерти. Ужас собственной смерти, по Хайдеггеру, очищает существование человека от вовлеченности в несобственную фактичность сущего.
Этот очищающий опыт делает возможным собственный способ бытия человека в мире. Только понимая собственную смертность аутентично в опыте ужаса как постоянную фактическую возможность своего небытия, человек обретает остроту и полноту существования, сталкивается на фоне этой возможности небытия с самим своим бытием. Это столкновение делает возможным бытиецелым, имеющее исходной своей точкой собственное бытие. Характерной чертой этого модуса существования Хайдеггер называет решимость – способность избирать не случайно подвернувшиеся возможности бытия в мире, но экзистировать из своего собственного бытия, не будучи рассеянным в окружающем сущем.
Что часто комментаторы и пересказывающие «Бытие и время» забывают, это подчеркнуто «мирской», то есть принадлежащий фактичности мира, характер собственного бытия по способу решимости. «Das Man» («люди»), хотя и противопоставляется Хайдеггером собственной экзистенции как режим несобственного бытия, тем не менее, именно «в людях» осуществляется решимость [Хайдеггер 2015, 299]. Хотя и Хайдеггер называет ужас опытом потери мира – нахождения нигде и никогда – тем не менее, собственный способ бытия в решимости уже не безмирный опыт экзистенции.
И это самый проблематичный момент во всей «экзистенциальной аналитике» присутствия. Эту проблему уловили еще студенты Хайдеггера Марбургского периода, шутившие так после его лекций: «я уже решился, только еще не знаю на что». [Сафрански 2005, 234] Если фактичность ужаса носит безмирный характер, будучи собственнейшей фактичностью экзистенции, фактичность решимости принадлежит и миру тоже, однако Хайдеггер в «Бытии и времени» не дает сколько-нибудь отчетливой дескрипции мирского, «внешнего» аспекта этого режима существования. Так обнаруживаются известные ограничения экзистенциалистского ответа на вопрос о «собственном» бытии человека: будучи лишен сущности, этот экзистенциальный способ бытия лишен и аспекта мира, то есть распознать его можно лишь интроспективно. Но в таком случае нужно поставить под вопрос концептуализацию решимости как способа бытия-в-мире.
Как известно, Хайдеггер выходит из этого затруднения, вводя понятия «экзистентный» и «экзистенциальный», где первое значит простую фактичность экзистирования в мире, а второе – основывающий эту фактичность способ бытия экзистенции, не фиксируемый невооруженным взглядом. Тем не менее, экзистенциальный уровень способа бытия эксплицируется согласно методу самого же Хайдеггера в «Бытии и времени» не иначе как через рассмотрение экзистентного уровня фактичности присутствия. Именно этот уровень экзистентной фактичности «собственного бытия» и не описывается Хайдеггером, он лишь обозначает его принадлежность к бытию-в-мире.
Эта проблема становится особенно заметной, если попытаться применить понятие «энергии» к этому случаю «собственного» человека с целью установить, какова собственная энергия (осуществление) этого бытия. Хайдеггер неоднократно указывает, что размыкание собственного способа бытия происходит через возвращение присутствия к своему бытию из потерянности в сущем, а ужас как «расположение» экзистенции есть очищение от несобственного бытия [Хайдеггер 2015, 311]. Поэтому, на первый взгляд, кажется, что речь могла бы идти в данном случае о катартической энергии, энергии очищения. Однако нетрудно заметить противоречивость такой концептуализации: очищение негативно, это отбрасывание «несобственного», тогда как энергия в аристотелевом смысле – это положительное осуществление бытия.
Что хайдеггеровская экзистенциальная аналитика, описывая собственное бытие человека, не доходит до собственной энергии человека не ее изъян, а верность избранной методологии и понимаю дела философии. Сам Хайдеггер, дабы подчеркнуть необеспеченность найденного «собственного бытия» человека сведением к какой-либо сущности человека, называет свои изыскания «фактичным идеалом экзистенции» [Хайдеггер 2015, 310]. Этим сказано, что статус «собственности» способа бытия здесь избрана, а не естественна и не разумеется сама собой в виду некоей раз и навсегда найденной природы человека. Основанием же такого избрания является более фундаментальный ориентир: поиск способа мыслить бытие и задача поставить вопрос о самом бытии в его отличии от сущего. Иными словами, «собственный способ бытия» человека у Хайдеггера остается проектом и, в сущности, проектом строго философским, имеющим стратегическую цель заново начать мышление о бытии.
Что западная культура, всё равно массовая или элитарная, отвергла этот проект, неудивительно. Однако и западная философия второй половины XX в. поступила, как известно, также. Сам поиск «собственного бытия» человека после событий середины века вызывал стойкие ассоциации с расистским дискурсом нацизма и фашизма у многих. Влиятельные интеллектуалы послевоенной Европы открыто вели борьбу с самим намерением искать «собственный» способ бытия человека и признавать онтологическую первичность за каким-либо опытом человека в мире. Адорно ввел едкий концепт «жаргон подлинности», призванный разоблачить такую стратегию, а Делез построил свою философию на понятии «расщепленный субъект», запрещающем всякое «центрирование» человека вокруг избранной «сущности» или «собственного» режима существования.
Как мы увидели ранее, знание об энергии равноисходно со знанием о «собственном» вещи или собственном бытии человека. Это значит, что отказ знать свое собственное ведет к незнанию и своей энергии. Владимир Бибихин заметил, что начало XXI века окрашено «гонкой за энергией» [Хоружий 2015, 109] как в техническом смысле – гигантскими мероприятиями по добыче энергии для промышленности, так и в гуманитарном – беспокойные разговоры об энергии в психологии, квазиэзотерике и просто в житейском узусе. Ценным является то, что распознается как дефицитное и не последнюю роль в случае с энергией играет отказ от основного антропологического вопроса о собственном бытии человека. Незнание и недумание о своем собственном способе бытия значит для человека рассеивание в мире и деэнергизацию, что Жан Бодрийяр концептуализировал применительно к современной культуре как «игру тысячи поверхностей». Вопрос об энергии человека не может быть поставлен до тех пор, пока не будет возобновлено вопрошание о характере «собственного» бытия человека.
Список литературы Энергия и проблема «собственного бытия» человека
- Арендт 2000 - Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни СПб.: Алетейя, 2000.
- Аристотель 2010 - Аристотель Политика. М.: РИПОЛ классик, 2010.
- Колесников 2019 - Колесников И.Д. «Собственное» вещи по Аристотелю // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2019. № 2 (26). С. 13-18.
- Колесов 2021 - Колесов В.В. Концептуальное поле русского сознания. СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2021.
- Новая философская энциклопедия 2010 - Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2010.
- Сафрански 2005 - Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, 2005.
- Хайдеггер 2015 - Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Акад. проект, 2015.
- Хоружий 2005 - Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
- Хоружий 2015 - Хоружий С.С. Бибихин, Хайдеггер, Палама в проблеме энергий // Стасис. 2015. № 1. С. 89-109.
- Heidegger 2002 - Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie. Frankfurt am Maine: Vittorio Klostermann, 2002.