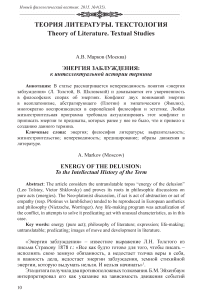Энергия заблуждения: к интеллектуальной истории термина
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 4 (35), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается непереводимость понятия «энергия заблуждения» (Л. Толстой, В. Шкловский) и доказывается его укорененность в философских спорах об энергиях. Конфликт двух пониманий энергии в неоплатонизме, абстрагирующего (Плотин) и эмпатического (Ямвлих), многократно воспроизводился в европейской философии и эстетике. Любая жизнестроительная программа требовала актуализировать этот конфликт и приписать энергии те предикаты, которых ранее у нее не было, что и привело к созданию данного термина.
Энергия, философия литературы, выразительность, жизнестроительство, непереводимость, предицирование, образы движения в литературе
Короткий адрес: https://sciup.org/14914513
IDR: 14914513
Текст научной статьи Энергия заблуждения: к интеллектуальной истории термина
«Энергия заблуждения» – известное выражение Л.Н. Толстого из письма Страхову 1878 г.: «Все как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать»1.
Эта цитата получила два противоположных толкования. Б.М. Эйхенбаум интерпретировал его как указание на зависимость движения событий 10

в мире (энергия понята исключительно как движение) от деятельности писателя2. Внутри этой деятельности заблуждение сродни инстинкту, тогда как истина – не цель, а скорее вызов, который надо одолеть, соперничая с этой истиной. Такое толкование, напоминающее о поисках «философии жизни» начала века, можно считать адаптацией собственной задачи большого романа показать, сколь сильнее стихия романа схем и культурных штампов повседневной жизни, победить вызов низких истин. В.Б. Шкловский в одноименной книге3 уже относил заблуждения не к инстинкту, но наоборот, к строению знания: заблуждения – это продуктивная ересь, оживляющая человечество, позволяющая человечеству и дальше искать смысл жизни. Здесь уже действует не писатель, а все человечество. Оба ярчайших представителя формализма сходятся в одном: реальность находится в постоянном развитии, но при этом относят заблуждение один к субъективному миру решений (абстракции), другой к объективной ситуации знания (всеобщей эмпатии). В данной статье мы доказываем, что это расхождение не сводится к индивидуальным позициям двух мыслителей, но коренится в исходных антиномиях европейской философской культуры.
Прежде всего, нужно отказаться от привычных ошибочных отождествлений энергии с движением, избыточной активностью или зарядом. Последнее – это как раз потенциал, противоположность энергии, хотя такое смещение внимания на источник и причину вместо действия происходило в эстетике не раз: достаточно указать, что слово «талант» мы соотносим в эстетике исключительно с потенциалом, который должен быть раскрыт в труде, а с повышенной энергичностью соотносим «талант» только в бытовой речи.
Слово «энергия» – термин Аристотеля, который, как и все прочие разработки этого философа, постарались воспринять в свои всеохватные интеллектуально изощренные системы неоплатоники. В неоплатонической философии возникло два разных понимания «энергии», историческая близость которых не может скрыть зияния непреодолимых различий. (Здесь и далее всех античных и средневековых авторов мы цитируем в нашем переводе по электронному изданию выверенных текстов4.) Плотин и его ученик Порфирий, равно как и корифей всего позднеантичного неоплатонизма Прокл, исходят из аристотелевского противопоставления динамики (потенциальности) и энергии (акта). Такая связка понятий идеально служила Ликею, описывая поведение вещей и ход явлений; но неоплатоники должны были описывать уже не вещи, но мир как реализацию открытых текстами Платона законов. Неоплатоникам пришлось создавать дополнительные конструкции, которые объясняли бы, как функционирование мира по накатанным рельсам совместимо с его вдохновенным созданием; иначе говоря, они столкнулись с той же проблемой четвероякого отношения живой жизни, законов природы, творческой воли и творческой цели, с которой сталкивались Шкловский и Эйхенбаум, решившие это уравнение с четырьмя неизвестными по-

разному.
Плотин дополнил понятие «динамис» понятием «гексис» (лат. habitus, имевшее большую историю в схоластике и возрожденное в ХХ в. П. Бурдье), которое означает расположенность вещи к какому-то действию: нужен не только потенциал, но и его инаугурация в расположенности, запуск этого потенциала. «От силы или расположенности мы заключаем об энергии» ( Эннеады , Ι, 1, 11). Тогда и можно видеть не только накатанную магистраль, но и вмешательство смысла как расположенности, которая располагает вещи в соответствии с откровением Платона. Такое «вмешательство» вошло в плоть и кровь позднейшего неоплатонизма. Прокл вознаграждает энергию большим числом эпитетов, которые должны привязать ее к вещам, и тем самым освободить потенциальность, позволив ей самой действовать вне вещей, легко обходясь с ними без необходимости сосредотачиваться на вещах и их именах. Вот лишь некоторые из эпитетов, которыми Прокл награждает энергию, из Комментария на «Кратил» Платона : «уподобляющая сила и порождающая энергия» (1, 2), «частичная энергия душ» (1, 4), «единство умственной и именующей энергии» (71, 113), «выделенные отцами потомкам энергии» (71, 126), «даймоны, усвоившие силы и энергии душ» (88, 15), «энергия сверх смертной природы» (97, 6), «нераздельность энергии богов» (101, 1), «созидательными своими силами и энергиями видотворит и различает (101, 26), «нераздельная непрерывность сил и энергий» (104, 16), «возвратная энергия» (110, 111). Это естественный итог впитывания смысла как свободного переживания творения мира, по сравнению с которым весь мир бьется в силках эпитетов и проваливается в ямы готовых действий. Эмпатия никуда не годится, а только абстракция дает свободу.
Но совсем иначе энергию мыслил младший современник Плотина Ямвлих. «Энергия» у Ямвлиха ничем не характеризуется, не терпит рядом с собой никаких эпитетов или близких по значению слов и однородна сущности, а не потенциальности. Последняя отходит на второй план: она может быть предметом научного интереса, но никак не экстатического созерцания. В трактате «О мистериях» Ямвлих настаивает не на неразрывности связки «потенциальность – энергия», но на неразрывности связки «сущность – энергия». Для Ямвлиха эта связка самоочевидна: если сущность может получать любые характеристики из внешнего мира, то энергия совершенно бескачественна; и поэтому, в отличие от других неоплатоников, у Ямвлиха между сущностью и энергией не встает никаких осложняющих обстоятельств. В Византии XII в. Николай, епископ Мефонский, добросовестный критик эксцессов неоплатонизма, противопоставивший нечестию неоплатоников умеренную и рассудительную позицию Ямвлиха, в частности, аллегорическое, а не буквальное понимание им метемпсихозы, угадал существенное разногласие внутри неоплатонической традиции. Рассудительность заключается именно в том, чтобы в разговоре об энергии не забыть созерцать сущность: само эмпатическое созерцание сущности, а не выводы из уже
состоявшегося платонического созерцания, придало потенциальности и энергии настоящий смысл.
Отцы Церкви Золотого века легко заимствовали неоплатоническую модель толкования энергий, просто мысленно отсекши неоплатоническую модель потенциала и предрасположенности. От платонизма остались сладкие вершки, а не корешки: доброе и щедрое отношение ко всем вещам, а не необходимость постоянно совершать поклон перед великим Платоном. Отцы Церкви постоянно подчеркивают, что благодаря энергиям можно с равным правом говорить о существовании самых разных вещей. «Всякая энергия соразмерна тому, что из нее происходит» (Василий Великий. Против Евномия – PG 29, 565А). Множество энергий человека свидетельствуют о сложности и величии человека, по Иоанну Златоусту. Энергии абстрагируют, называют «достоинствами вещей» и Григорий Назианзин, и Григорий Нисский. Результаты и цели энергий оказывались важнее их свойств.
Но интеллектуализм полемистов постепенно брал верх над простой благожелательностью рассудительных проповедников. Последний оригинальный богослов ранней Византии Максим Исповедник уже отходит от абстрагирования вещей и состояний: он считает результатами энергии не вещи, а виды, среди прочего, виды познания: именно это абстракции, просто картографирующие единый мир эмпатии. Свет Преображения – символ «апофатического таинственного богословия, по которому блаженное святое Божество по сущности выше всякой речи и постижения». А символ самих энергий – светлые одежды Бога, ибо как при свете видны все вещи, так и Бог является создателем всех вещей ( Спорные вопросы . – PG 91, 1168B). Иначе говоря, энергия позволяет различать виды и вещи, сама будучи чужда категории вида. Она оказывается исходной точкой, точкой обретения сущности, чувственной причастности сущности, как у Ямвлиха, а не реализацией вещей, как у Плотина: «конституирующая сила сущности, согласная природе» ( Малые сочинения . 14 – PG 91, 153A). Само применение к энергии категории вида разрушает корреляцию энергии и силы, а понимание ее как постоянно осуществляющейся в вещах превращает ее в постоянное движение: «Она существует как видотворящее движение, а лишено этого движения только не-сущее» ( Спорные вопросы . – PG 91, 1048A). Энергия оказывалась уже полностью отпущена на волю: она становилась критерием различения, но при этом сама отличалась от вещей только по собственному желанию, и поэтому если вещи считать «истинами», такое прихотливо произвольное отличие от истины вполне можно назвать «энергией заблуждения».
Энергии вновь стали предметом познания в аскетической мысли, которой требовалось объяснить, каким образом подвижники идут одним путем, совершают одни и те же познавательно-аскетические практики, но одни оказываются правы, а другие – впадают в тяжкое заблуждение. Аскетика уже однозначно порывает с изжившей себя после неудачных ремонтов моделью Плотина и переходит к модели Ямвлиха. Никита
Стифат, ученик самого радикального византийского мистика Симеона Нового Богослова, противопоставляет в трактате О рае правильное познание, которому предшествуют подвиги, аскетические упражнения в добродетелях и очищение душ от всякого омрачения, познанию молодых монахов, не утвердившихся в делании добродетелей и не очистивших взор своей души из-за своей малой твердости. Первый тип непреложен и истинен, и в нем не ставится никаких дополнительных усилий между сущностью и ее спасительными энергиями. Второй тип познания только ведет душу к гибели, «как это и случилось с Оригеном, Дидимом, Евагрием и другими ересиархами». Зачисление в еретики (в носители заблуждений) самых авторитетных аскетических писателей древности, которым трудно отказать в добродетельном образе жизни, было знамением такого отхода от отождествления энергии с абстрактной добродетелью, которая сама должна вести к истине. Евагрианской традиции было противопоставлено учение об энергиях не как о средствах абстрагирующего познания, а как об источнике познания: это как раз и был решающий шаг к тому, чтобы считать энергии начальной точкой движения, а не конечной.
Эта начальная точка оказывается вполне нейтральной, и путь из нее – это путь, неизбежно ведущий сквозь заблуждения, тернистый путь аскетических упражнений. Никита Стифат, в полном согласии с достижениями богословия, говорит, что со страстями человек может вполне справиться, что человек не познает энергии, а совершает аскетические упражнения благодаря энергиям и далее очищается Богом, и, пребывая в истине, он может описывать только свои частные состояния. Через два века Феофан Никейский, богослов-паламит, уточняет позицию исихастских теоретиков аскетики, мобилизуя весь аппарат тогдашней науки. Согласно Феофану, со страстями человек справляется благодаря изучению творений и подвигам, аскетические упражнения совершает благодаря божественной славе, выразившейся в учении Церкви, преобразуемый благодатью, а получив очищение, направляется только силой Святого Духа во всемирной пятидесятнице непосредственного видения Бога. Таким образом, энергия не является ни в коем случае моментом утверждения истины или соперничества с ней, но, наоборот, моментом, когда к истине можно как-либо отнестись, поняв ее преимущество перед прежними заблуждениями, увидеть истину как общую цель человечества.
Противостояние позиции, для которой «энергия заблуждения» – это личный инстинкт борьбы за истину, и позиции, для которой она же – господство заблуждений в жизни, преодолеваемое наличием в жизни смысла, вполне было воспроизведено как итог развития такой адаптации богословием философии. Речь идет о расхождении определений византийского собора 1351 г. и собора 1368 г., на которое обращают внимание все историки богословия. Оба постановления согласны в том, что Фаворский свет (энергия как видимое) является нетварным и в этом смысле незримым, и потому факт видения незримого света парадоксален. Но если в постановлении собора 1351 г. сказано, что этот свет
воспринимается наличными органами чувств, то собор 1368 г. уже говорит о преобразовании чувств, утверждая незримость и самого восприятия. Получилось, что в первом случае истина познается из заблуждения, а во втором – заблуждения разлиты в жизни, и истина является целью и для восприятия, и для самих вещей.
Итак, «энергия заблуждения» вновь была понята сначала как «энергичное преодоление заблуждения», благодаря тому, что правильное отношение к вещам и правильное понимание вещей создается в аксиоматике потенциального (в традиции Плотина), а потом как всеобщее «активное блуждание», которое преодолевается, если энергия коррелирует с сущностью, а чувства – с предметами (в традиции Ямвлиха). Такой конфликт двух пониманий, абстрагирующего и эмпатического, многократно воспроизводился в философии и культуре, достаточно указать на «аполлинизм и дионисийство» Ницше7 или «абстракцию и вчувствование» Воррингера8. Но другое дело, что далеко не всегда это простое культурное противопоставление находит решение в логике самой культуры, а не как результат специально продуманных интеллектуальных компромиссов. Решения русской литературы и русской критики оказываются в одном ряду с поворотными для всей европейской культуры философскими и теологическими решениями, что позволяет говорить, конечно, не о том, что мы раскрыли какую-то подспудную философию или теологию, но о том, что логика культуры гораздо сильнее ценностных установок отдельной эпохи или отдельного культурного круга.
Список литературы Энергия заблуждения: к интеллектуальной истории термина
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Юбилейное издание (1828-1928). Т. 61. М.; Л., 1953. С. 410-411
- Эйхенбаум Б.М. Творческие стимулы Льва Толстого//Литературная учеба. 1935. № 9. С. 43
- Шкловский В.Б. Энергия заблуждения: книга о сюжете. М., 1981
- Pantelia M. et al. Thesaurus linguae graecae: A Digital Library of Greek Literature. Online edition. Irvine: University of California, 1992-2015-
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М., 2001
- Worringer W. Abstraktion und Einfühlung. München, 1908